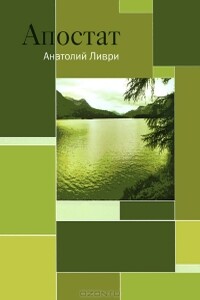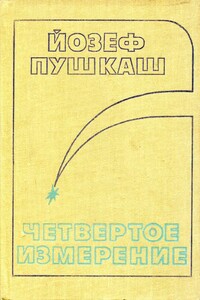Ступени, нисходящие в метро, были неимоверно грязны, и Александру пришлось с опаской ступать по осколкам бутылок, обглоданным костям, клочьям рекламы средиземноморских пляжей и длиннющим обрывкам чёрной нити. Пробив билетик, он вошёл в вагон, устроился на сиденье, украшенном эдиповым ругательством, бережно уложил себе на колени полублагородную кожу портфеля. Состав заурчал, лязгнул зубами и утащил Граверского во тьму.
Сидящая напротив дамочка второй молодости распушила подрезанные крылья газеты, скосила левый глаз сначала на Александра, а затем на свою ляжку, оставила шуршащие листы и, собравши рожицу в свиное рыльце, проверила, надёжно ли скрывает её прелести буро–зелёная юбка. Задорно посмотрев на Александра, она смахнула со лба чернильную прядь волос, открывши его взору четыре из семи звёзд Большой Медведицы, а вскоре, когда вагон остановился на Восточном вокзале, вежливо осклабилась, скатала «Парижский Комсомолец» в подзорную трубу, запихнула его в авоську, подошла к двери, остановилась, подбоченилась, притопнула, с независимым видом передёрнула плечиками, поглядела на Александра и затрусила по коридору.
На её место тотчас прыгнули трое мальчишек; заголосили, замахали ногами, завертели головами и липкими леденцами в форме ящериц и кинг–конгов с уже слизанными конечностями; и Александр вспомнил, что с недавних пор он стал бояться и детей, их ещё неразорванной связи с небытиём, их дыхания, в котором слышалось его собственное прошлое, смешанное с запахом весенней пашни. Но поезд уже подъезжал к его станции. Александр поднялся и, сторонясь мелькавших в воздухе ботинок, вышел из вагона.
В переходе на Opéra в нос ему ударил запах вина; в тот же момент Граверский увидел огромное кровавое пятно. Он ошалело остановился, и лишь получив весьма невежливый толчок в плечо от спешащего пенсионера, понял связь между багряной лужей и духом перебродившего виноградного сока.
Всё это произвело на Александра действие чрезвычайно необычное; какое–то воспоминание пронеслось у него в голове; Александр улыбнулся и ускорил шаг.
Пересев на третью линию, он уже меньше задерживал взгляд на щербатых, косых и прыщавых лицах. На станции Св. Лазаря в вагон вошли румыны и принялись плясать и трясти бубном под фонограмму цыганских песен. Пассажиры расслабились, а затем, наоборот, сжались, упёрши взгляд в одну точку, когда чернавка, подрагивая жирными бёдрами, прошла меж рядов, собирая плату. Вагон оказался неурожайным, она скорчила весьма пренебрежительную гримасу, но музыка продолжала вырываться из недр магнитофона, и волей–неволей ей пришлось танцевать. Поначалу она делала это механически, несомненно, подсчитывая утреннюю выручку, но затем, будучи не в силах противиться ритму, разгладила морщину и затанцевала уже по–настоящему.
Александр покинул подземелье, снова очутившись в мутном городском воздухе. Граверский ненавидел ледяной высокомерный квартал, где ему приходилось работать, но сейчас он вдруг вспомнил, что бульвар, по которому он идёт, назван в честь храброго защитника затравленного короля, и — чего с ним не случалось уже давно — неожиданно для себя самого злобно улыбнулся, смачно плюнув на асфальт.
Войдя в университет, он чинно поздоровался с привередливыми неграми, сидящими за решёткой вахтёрской будки, и благо до лекций оставался добрый час, направился в столовую, уселся за колченогий столик, заказав литр итальянской газированной воды вместо ставшей привычной полбутылки белого вина.
Тут неожиданно распахнулась левая створка двери. Высоченные своды столовой огласились визгливой французской речью и несмелым русским тявканьем. На пороге появился один из пробившихся в науку кулаков, большой сорбонагский начальник, давно знакомый Александру своей мордой варана и душой Вар–раввана. Маленький и гневливый (как сказал бы Рабле), он обожал лакеев (которых так щедро экспортирует на Запад родина Пушкина) и сейчас был окружён свитой активисток, с энтузиазмом трясших пегими гривами, не забывающих также раздувать розовые щёки, бойко поводить бёдрами, шустро цокать стоптанными каблучками и взмахивать ресницами, на которых Граверский подметил — то здесь, то там — перхотную снежинку. Находясь в беспрестанном страхе перед барской немилостью, они смиренно посещали его лекции, от которых обыкновенно голова разбухала, как живот от ватрушки Собакевича.