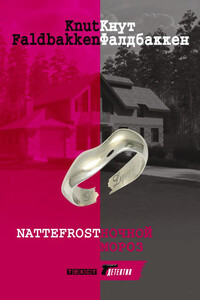Я присел на корточки и взирал, скрытый кустарником, на девичье тело, которое лежало и сверкало белизной на солнце, вознаграждая как бы тем самым мое скрытое наблюдение. Муравей заполз в кроссовку, и мухи веселились в ушах и на моей потной шее, и солнце жгло щеки, но внутри холодело, потому что… потому что я, наконец, заметил маленькую корзину, стоящую в тени, из которой на секунду показалась рука ребенка, выбросившего игрушку, очевидно, недовольная ею, желтую утку… пластиковая утка с ярко-оранжевым клювом лежала теперь печальная в траве… Моя утка! Когда же дядя Кристен успел отдать купленный мною подарок? Рано утром, когда я брал удилище в сарае, пакет лежал на строгальном станке… И еще я увидел: две пустые бутылки, брошенные в траве. Две бутылки: минеральная вода? кока-кола? Безразлично что, но две… две? Только для нее? Я увидел также два бумажных стаканчика, такие, какие дают в поезде…
Теперь припомнилось также, что не так давно я слышал нечто, похожее на шаги, неподалеку, да, конечно, шаги, просто не обратил внимания: вероятно, он! Конечно, он был здесь, именно здесь! Я тяжело дышал. Тело ломило от неудобной позы. Пот струился ручьями.
Я также обратил внимание, что под ее головой лежала одежда, одежда темно-синего цвета с белыми полосочками; рукава, пуговицы… Это была рабочая блуза, рабочая блуза, известная мне, рабочая блуза, которую я видел сегодня рано утром на дяде Кристене, когда испрашивал разрешения взять удилище. Теперь она лежала на зеленой траве под ее головой. Он! Он был здесь! Он видел Катрине в таком виде, говорил с ней, пил с ней лимонад, дал ей подарок… А, быть может, разделся, загорал и показал ей шрам… Вероятно…
Нужно бежать, нет больше сил вот так сидеть и взирать на ее прелести и вздыхать о ней. Бежать. Я начал потихоньку отходить, шаг за шагом, не спуская глаз с ее тела, такого изящного и маленького, недвижимого и провоцирующего, невинного и безобидного, однако подозрительного, испорченного близостью дяди Кристена. Но маневрировать с удочкой было нелегко, заросли кустарника не позволяли продвигаться бесшумно, поэтому я спустился ближе к воде, тут что-то подвернулось под ногами, мох соскользнул с камня: я потерял равновесие и упал, задержал скольжение руками, удочку не выпустил, и она, пролетев в воздухе дугой, с шумом плюхнулась в воду и так далеко, что я не мог управлять ею; к тому же продолжал думать о Катрине и в отчаянии решил сделать все, чтобы она меня не увидела и не услышала… спас себя, ухватившись за ветки. Вот так и лежал я на четвереньках на открытом берегу речки, продолжая держать в одной руке удочку, которая теперь то поднималась из воды, то погружалась, крутилась и вращалась, пыталась вырваться, а в другой руке, которая ныла и болела, сжимал листья и сломанные ветки; взгляд же был по-прежнему прикован к нагой нимфе, которая теперь, в это нестерпимое для меня мгновение, вдруг проявила признаки жизни, приподнялась на локтях и повернулась в мою сторону, оголив свою удивительную верхнюю часть: два глаза и два темных пятнышка на груди удивленно уставились на меня с другого берега. Удар, от которого не оправиться!
Я смотрел вниз, смотрел в сторону, перебирал ногами, тащил, что было сил, несчастную удочку из воды, не смел взглянуть в ее сторону, едва мог двигаться, едва дышал от сомнения и стыда быть разоблаченным в подглядывании; и все же глазел на нее, глазел комическим и недостойным способом. Лицо горело. Я должен спрятаться. На уме было единственное: бежать! бежать без оглядки! Но, разумеется, к моему невыразимому огорчению я не сдвинулся с места, наблюдал за солнечными бликами на воде и размышлял, был ли это мой последний миг на земле, была ли это смерть? Вечный мрак и погибель?
— Хей, Петер!
Ее голос разлился колокольчиком над рекой, звонкий, беззаботный и веселый. Разве мог я противиться? Отважился и выглянул. Она прикрыла рукой грудь, улыбалась и махала другой рукой. Ни тени тревоги или возмущения:
— Я не видела тебя, понимаешь? Ловишь рыбу?
— Я… да. Я споткнулся. (Идиот! Будто она не понимала!)
— Да, камушки здесь хорошие. Ушибся?