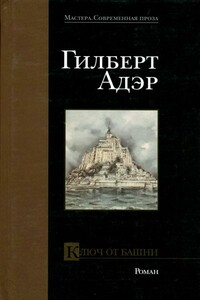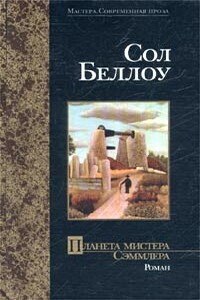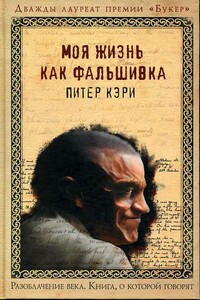Мэггс отвернулся и стал смотреть в окно, оставив Тобиаса ломать голову: зачем придавать значение тому, что думает о тебе твой арендатор?
— Я не ваш комический герой, мистер Отс.
— В каком смысле?
— В таком, в каком вы понимаете вашу старую курицу, Женщину-канарейку. У вас есть для нее жестяная коробка?
— Жестяная коробка, Джек?
— Такая, какую вы припасли для меня. Жестяная коробка, в которых вы держите демонов, извлеченных из меня вашими магнитами.
— У меня есть Бегемон и Дабарейел, крепко запертые и прочно спрятанные. Но с собой по дорогам я их не вожу.
— А у вас есть жестяная коробка для вашей Женщины-канарейки? Я задал вам этот вопрос. Если она у вас есть, то, значит, у вас этих коробок должно быть так же много, как у ростовщика.
— Канареек я держу вот здесь. — Тобиас постучал себя по голове и улыбнулся. — В этой жестяной коробке.
Мэггс снова отвернулся и стал смотреть на поля, уходящие к северу. Вскоре дорога сузилась и стала не шире городского переулка. Кустарник смыкался вокруг дилижанса.
— А я, — печально произнес Мэггс, — все держу в своей жестяной коробке.
— И местность?
— Да, — ответил Мэггс и, повернувшись на сиденье, вздохнул.
Они еще какое-то время ехали по узкой дороге, и каторжник все чаще припадал к окну.
— И такой местностью вы считаете Букингемшир?
— Посмотрите, как растет терновник! — воскликнул Мэггс, когда неподрезанные ветви кустарника хлестнули по карете.
— Я считал вас лондонской ласточкой.
— Так оно и есть, да посмотрите же, черт побери, на живую изгородь из колокольчиков и плюща. А какой запах! Вдыхайте, вдыхайте!
— Это фиалки?
— Кроме фиалок, есть и другой, не такой приятный запах.
— А я могу уловить запах травы Роберта?
Вместо ответа каторжник улыбнулся столь редкой широкой искренней детской улыбкой.
— Моя Ма звала меня Джеком из Канави, — сказал он.
— Из-за плохого запаха?
Мэггс пожал плечами.
— Она была странной, моя Ма.
Теперь Тобиас постарался представить себе Ма такой, какой видел ее Джек во время гипнотических сеансов. Он знал, как выглядит ее кинжал, но не мог видеть ее ястребиный взгляд, красивые рыжие волосы, ослепительно белое плечо. Для Тобиаса она осталась тенью, страстью и болью, темным зловещим размытым пятном в гипнотических снах Джека Мэггса, и теперь он хотел выудить побольше из этой улитки.
— Не очень приятно сознавать, что ваша Ма назвала вашим именем какую-то плохо пахнущую траву.
Мэггс отвернулся, но когда он опять посмотрел на Тобиаса, глаза его блестели, и нетрудно было представить, каким он был мальчишкой и как сильно когда-то не хватало сироте тепла и ласки.
— Я не верю, что она дала мне какое-либо прозвище, — сказал он. — Она сама из Букингемшира, а в этих краях такую траву зовут травой Роберта. Но даже если все было так, как вы говорите, сэр, я вот что вам скажу, и это будет правдой: лучше дурно пахнуть здесь, чем благоухать розой в Новом Южном Уэльсе.
После этого он умолк и был мрачен всю дорогу до Мэйденхэда.
В Мэйденхэде дилижанс «Истый Британец» пополнился пассажирами — членами семейства Гаррис, собравшегося на ярмарку в Абингдон. Их было пятеро: самым старшим был великолепно смотревшийся дедушка с белоснежной бородой и серебряными карманными часами, доставлявшими внучатам огромное удовольствие — они то и дело вынимали часы из дедушкиного кармашка и справлялись, который час. Очень красивая миссис Гаррис, сидевшая выпрямившись всю дорогу, вместе со старшей дочерью пела духовные гимны и старинные баллады. Ее муж — мистер Гаррис-младший обладал бородой, которая была, пожалуй, подлиннее и роскошнее отцовской, ибо покрывала большую часть его широкой груди.
Время от времени мистер Гаррис-младший развлекал своих детей тем, что при помощи поясного ремня стягивал бороду у себя на животе. По какой-то неизвестной и таинственной для Тобиаса причине в семействе Гаррисов это считалось забавной шуткой, и дети то и дело просили отца повторить ее.
Отношение Джека Мэггса к новым пассажирам было каким-то неопределенным, ибо он, сидя у окна, спиной ко всей этой компании, то ли дремал, то ли глядел на мелькающие мимо пейзажи. Но для Тобиаса с его способностью преувеличивать добропорядочность людей, которых он не знает, семейство Гаррисов казалось живым укором собственной греховности. Он чувствовал, как их христианская обыденность сурово вершила суд над ним.