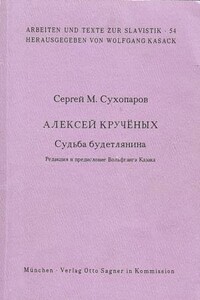Мейербер окончил свою оперу за несколько дней до июльской революции, повлекшей за собой большие перемены в управлении театром: из рук государства оно перешло к частному лицу, доктору Верону, который, не питая надежд на то, что гений Мейербера обогатит его, отказался от постановки его оперы. Боязливость Верона увеличивалась слухами о дурной музыке, распространяемыми недоброжелателями автора, что еще больше затрудняло борьбу Мейербера с трусливым директором. Наконец, благодаря богатству, дозволившему ему обеспечить Верону сбор и заплатить издержки, Мейерберу удалось достигнуть желанной цели.
Устроив судьбу своего детища, композитор стал заботиться о том, чтобы подыскать хороших исполнителей. Он выписал из Италии для роли Бертрама Левассера, для которого переписал всю партию из баритоновой в басовую; знаменитому Нури был поручен Роберт, г-жа Дорю исполняла роль Алисы, чередуясь с г-жой Фалькон, находившейся в то время в полном расцвете красоты и таланта. Впечатление, производимое ее кристальным, чарующим голосом, усиливалось ее замечательно привлекательной внешностью. Она была «явлением гения в красоте». «Современное искусство приветствовало в ней свою вдохновенную царицу, все восхищались ею и рукоплескали ей, ибо вокруг этой юной головки было больше надежд, чем цветов и бутонов на ветвях в чудную майскую ночь. Ее глаза проливали больше сияния, чем лучи зари и все звезды востока».
С первых же репетиций по городу разнеслась весть о необыкновенной, неслыханной до сих пор опере. Эта весть зажгла в публике любопытство, она стала ожидать новую оперу с лихорадочным нетерпением, и в утешение Верону билеты на шесть первых представлений были раскуплены заранее. Пятьдесят следующих представлений дали небывалый сбор в десять тысяч франков, который не падал никогда ниже семи тысяч. Успех был поражающий, «одуряющий». Публика и критика разразились единодушными восторгами и позабыли на время своих прежних кумиров, Россини и Обера. «Роберт-Дьявол» вознаградил своего автора за все разочарования прежних лет и вознес его разом на вершину его артистической славы. Переведенный на немецкий, итальянский, голландский, русский, венгерский, датский, шведский и другие языки, «Роберт-Дьявол» появлялся на сценах всевозможных театров Европы и всюду возбуждал восторги публики. Подобно «Крестоносцу», он переплыл океан, и в Америке, так же как в Европе, утвердил славу Мейербера. В Новом Орлеане он давался сразу в двух театрах на французском и итальянском языках, и появление его в Гаване, Мексике, Китае и Алжире встречалось такими же горячими восторгами, как и во Франции.
Эффектный сюжет, небывало блестящая постановка, чарующая музыка «Роберта-Дьявола» производили такое захватывающее, могучее впечатление, что заставляли забывать все многочисленные недостатки, которые, как и достоинства мейерберовского творчества, особенно ярко выразились именно в этой опере: мелодии, полные задушевной прелести, сменяются шаблонными ариями, испещренными искусственными украшениями; рядом с глубоким, потрясающим драматизмом встречается пустой, надутый пафос; сила и красота оркестровки часто направлены на достижение внешних эффектов; художественное чутье часто затемняется желанием автора произвести непосредственное впечатление на публику, чего он достигал, конечно, в ущерб настоящим достоинствам произведения.
В день первого представления «Роберта-Дьявола» в Париже Мейербер получил письмо от матери, которое сохранял всю жизнь как талисман. В довершение счастья после представления его заключили объятия самой матери, которая приехала неожиданно для него в Париж, чтобы присутствовать при торжестве своего гениального сына. Гейне пишет о ней: «Эта женщина – самая счастливейшая из матерей, которые существуют на этом свете. Повсюду ее осеняет слава ее сына; где бы она ни была, куда бы она ни пришла – везде до слуха ее доносятся разные отрывки его музыки; всюду ей светит блеск его славы, и в опере, где вся публика шумными рукоплесканиями выражает свой восторг ее Джакомо, ее материнское сердце замирает от такого счастья, которое нам трудно себе представить».