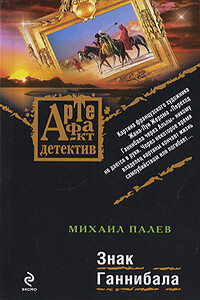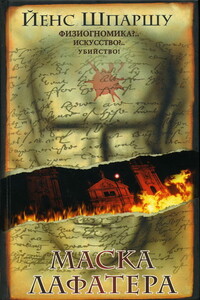— Клавдия Ивановна, почему вы продали дачу?
— Из-за человечков.
— Так мешали жить? — засомневался я, потому что она упоминала лишь одного соседа Помывкина.
— От зари до зари.
— Сколько же их?
— Матвей считал.
— А вас они не касались?
— Мое дело сорняки таскать да щи варить.
— Как же проявлялась вражда этих многочисленных врагов?
— Каких врагов?
— Человечков, как вы их назвали…
— Нешто они враги? Вот дрозды — сущие вороги, налетят капеллой и все склюют.
Я молчал, ощущая какую-то иррациональность положения. Седая женщина. Непонятная речь. И тут меня пронзила четвертая догадка, такая же сумасшедшая, как и эта старуха: не она ли убила мужа, сваливая теперь на каких-то человечков?
— Он уже там, — вздохнула Кожеваткина.
— Кто?
— Матвей.
— Где «там»?
— Сорок дней прошло… Его душу на землю уже не отпускают.
— Вы верующая?
— Бог всех спасет.
Она полностью стянула платок, отчего седые волосы привстали изумленно. Рыхлое лицо с мучнистой кожей, светлые глаза без огня и смысла, белые живые волосы… Да она убила, она.
— Клавдия Ивановна, что могли искать у вас в квартире?
— Леший их знает.
— Что могли искать? — повторил я вопрос. — Золото, бриллианты, меха, картины, ценные вещи?…
— Нету у нас таких.
— Ну а деньги?
— В доме не держим.
— А где держите? Кстати, за сколько продали дачу?
— За двенадцать тысяч. Все до копеечки лежат на моей сберегательной книжке.
Логика в ее словах была, ибо законные деньги хранят в сбербанках. Но, видимо, была какая-то логика и в действиях преступника, коли вспарывал диваны и подушки.
— Тогда что же искали?
— Видать, человечков.
— Ага, человечков, — согласился я. — Пляшущих?
— Почему это пляшущих? И ручки есть, и головка. Вылитые человечки.
— Какие человечки, Клавдия Ивановна? — чуть не рявкнул я.
И тут Кожеваткина усмехнулась той усмешкой, которую адресуют непонятливому дурачку. То есть мне.
— Корень такой… Называется женьшень.
— Как этот корень мог оказаться в вашей квартире?
— Эва! Да Матвей их вырастил не один ящик.
— Вы хотите сказать, что на садовом участке он выращивал женьшень?
— Крупный был дока в этом деле. Переписывался с учеными. Но работа адская, пришлось от этих человечков отказаться и дачу продать.
Общение на интеллектуальном уровне. Общение на эмоциональном уровне. Общение на информационном уровне. Общение на подсознательном уровне. Кожеваткина общалась на неизвестном мне уровне. Что там ниже подсознания? Инстинкты?
— Надо панихиду заказать, — вздохнула она.
— Клавдия Ивановна, куда ваш муж девал выращенный женьшень?
— Сдавал.
— Сколько сдавал ежегодно?
— Они, что ли, каждый год зреют? Лет восемь растил… И земля нужна непростая, и поливы, и тень… Прошлой осенью все корни выкопали, сдали и дачу ликвидировали.
— Сколько за женьшень получили?
— Пятьдесят тысяч.
— Вы хотите сказать, пять тысяч?
— Еще чего… Пятьдесят тысяч.
— Почему так много?
— А грамм корешка знаешь как идет? Что твое золото.
— А где эти деньги? — нервно спросил я.
— На моей сберкнижке.
— Почему именно на вашей?
— У Матвея сердечко поджимало… Да и надежней, меня девицы в колготках не заманят.
— Итак, вы хотите сказать, что на вашей сберегательной книжке лежат шестьдесят две тысячи?
— Копеечка в копеечку, и книжка при мне.
Вроде бы бессмысленный вопрос обернулся нужнейшей информацией — я теперь знал, что искали в квартире. Шестьдесят тысяч.
— А почему Матвей на девок-то смотрел? Корень жевал в сыром виде. Кровь и закипала. Отсмотрелся и на девок, и на мир божий. Теперь уж ему не поможешь, — успокоила меня Кожеваткина.
И глянула своим прозрачным взглядом, в котором я ничего не увидел, как ничего не видно во всем прозрачном. Нет, увидел — жутковатое белое спокойствие, которое я считал горем. Взгляд убийцы. А почему бы нет? Освободиться от мужа ради шестидесяти тысяч. Тем более, что Кожеваткин поглядывал на девиц в колготках. Но у Клавдии Ивановны было алиби. Впрочем, ей по средствам нанять и убийцу. Нужно сказать Леденцову, чтобы за этой женщиной понаблюдали.