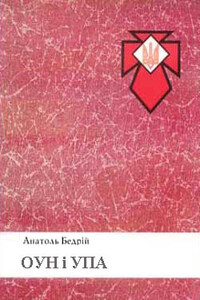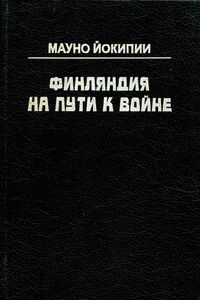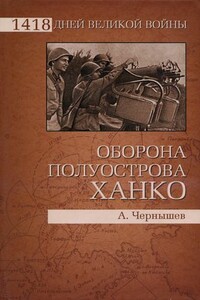Реформы Петра I и сословная консолидация дворянства
Дворянство Российской империи не просто сформировалось на основе некой уже существовавшей социальной прослойки — его сотворил самодержец в петербургский период русской истории, наделив эту касту привилегиями, позволившими ей отмежеваться от низших слоев>{116}.
Отправной точкой данной политики послужила армейская реформа Алексея Михайловича, которая позволила государству «сформировать из этих бедняг боеспособную армию»>{117}. Как показал Ричард Хелли, еще в 1660-е годы в царской казне накопилось достаточно свободных средств, которые царь мог бы употребить для отмены крепостного права. Однако царь предпочел сохранить сословие поместных дворян — не по соображениям военной тактики, а по внутриполитическим причинам. В годы восстания Степана Разина стало очевидно, что для поддержания порядка в стране царю требовалась поддержка служилых людей>{118}. Логично было бы рассматривать дворянскую реформу Петра I в качестве продолжения политики Алексея Михайловича, с той оговоркой, что Петр еще и ориентировался на западные образцы.
Важными шагами в этом направлении стали в первую очередь постепенный роспуск и ликвидация привилегий стрелецких полков (начавшиеся в 1698 году)>{119}, прекращение практики раздачи казенных земель (1711–1714)>{120}, юридическое слияние поместья и вотчины (1714), введение подушной подати (1719–1722) и Табели о рангах (1722); не последнюю роль сыграло и активное привлечение дворян к обучению военному делу и к офицерской службе.
Историю имперского дворянства можно вести от податной реформы, поскольку эта реформа впервые четко разграничила в правовом отношении две группы служилых людей: более знатных, обязательства которых в дальнейшем ограничились несением воинской службы (будущие дворяне), и потомков служилых людей низших разрядов, освобожденных от воинской службы, но обложенных подушной податью (будущие однодворцы). Податью облагались все, кто к моменту ревизии (около 1719 года) не имел офицерского чина, не отбывал военной службы, не вел род от московских чинов, вовсе не имел крепостных душ или имел их так мало, что сам вынужден был трудиться на земле. Поскольку чиновники при толковании закона ранжировали дворян исходя скорее из прагматических соображений, нежели руководствуясь строгими юридическими критериями, на практике часто решающую роль играл текущий размер поместья, от которого по традиции зависел и чиновный статус[8]. При этом рядовых солдат до истечения срока службы не относили ни к одной, ни к другой категории, поэтому процесс размежевания слоев к 1740 году еще не завершился полностью[9]. Около 1730 года в государстве насчитывалось примерно 400 тысяч бывших служилых людей (служилые люди прежних служб), из которых 340 тысяч перешли в разряд государственных крестьян (однодворцев), а остальные 60 тысяч сделались посадскими людьми>{121}.
Вместе взятые, бывшие служилые люди составляли заметно более многочисленную социальную группу, чем дворяне, освобожденные от уплаты налогов. Немалое число их потомков и в последующие десятилетия часто несли службу рядовыми солдатами или унтер-офицерами. На их основе сформировалось недворянское сословие кадровых солдат, то есть солдат «по наследству», родившихся в полку и остававшихся в нем всю свою жизнь. Шансов получить поместье у них не было, зато им выплачивалось жалованье в размере достаточном, чтобы обзавестись семьей. Дети их, в свою очередь, отправлялись в военные училища, где их готовили к воинской службе>{122}. Таким образом, в среде служилых людей была проведена черта между землевладением и воинской службой: либо они возделывали землю и платили налоги, либо несли солдатскую службу, оставаясь на всю жизнь при своем полку. Теоретически у них сохранялась надежда на производство в офицеры и получение в дальнейшем дворянства, — но вероятность этого была крайне невелика. Судьба служилых людей незнатного происхождения в глазах мелкого провинциального дворянства Петровской эпохи служила примером социального падения, которого само оно избежало лишь чудом, да и то неокончательно. То, что в решающий момент ревизии во главу угла ставилось не происхождение, а размер наличного имения, мелкопоместные дворяне, вероятно, запомнили навсегда.