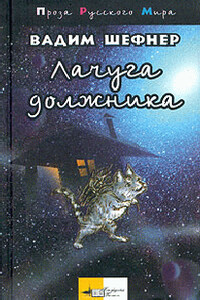– копия с картины неизвестного художника – висел на стене: никто не покупал.
С Гошей я продолжал видеться почти каждый день. Не радовал меня мой друг. Вид у него стал малохольный, будто его пыльным мешком из-за угла тюкнули. Он по-прежнему честно и беспрогульно ходил на работу, но теперь стал выносить духи не только в грелке, а и в резиновом шланге, который обматывал под одеждой вокруг тела. На это повышение выноса продукции его настропалила Тося, которая через моего друга бурно рвалась к зажиточной и красивой жизни. Приходя домой, Гоша первым делом сливал духи в кастрюлю, а жена с тещей, взяв резиновые клизмы, разливали эти духи по флаконам, которые тишком покупали у утильщика. А потом Тося реализовывала товар через своих знакомых.
– Смотри, Гоша, не погори на этом деле, – намекнул я однажды другу. – Эти духи плохо пахнут, они отсидкой пахнут. Надо бы тебе перестроить свою жизнь.
– Сам чувствую, что-то не то с жизнью получается, – признался Гоша. – Я уже совсем было собрался бросить это дело, да Тоська пристает, ей все больше и больше нужно. Как не принесу – скандал, обманщиком меня ругает, очковтирателем. Хоть домой не приходи… И с талантом у меня что-то не ладится, – продолжал Гоша, вздохнув. – В публике уже нет этого энтузиазма. Третьего дня какие-то, с позволенья сказать, зрители даже с критикой выступили: вы, мол, не понимаете искусства!
– Это просто шпана какая-нибудь, – утешал я Гошу. – Все великие люди страдали через свой талант, всех их сперва недооценивали и недопонимали. Плюй в глаза маловерам и верь в свою неугасимую звезду!
– Нет, Вася, это не шпана, – печально сказал Гоша. – Даже коллеги по самодеятельности – и те недовольны. «Ты, – говорят, – своим иком все роли нам портишь». И режиссер ругает, что не расту. «С этим, – говорит, – репертуаром теперь далеко не ведешь».
У друга дела шли шатко, а у меня – и того хуже: ведь на работу в те годы устроиться было не так просто. Пришлось мне загнать свою роскошную шубу и взамен ее купить на барахолке потертый пальтуган на рыбьем меху. Шапку я тоже продал, проел и костюм. Только часы я не продал бы ни за какие тысячи, скорей бы с голодухи помер. Ведь часы эти были памятью о Лиде.
Но скоро Гошины дела стали похуже моих. Гоша попал под суд. Он подозревал меня в мокром деле, а вышло-то мокрое дело у него. Правда, об убийстве тут речи не было, но все-таки дело получилось мокрое.
А произошло это так. Однажды, когда Гоша после смены шел через проходную, у него выпрыгнула пробка из того самого шланга с духами, который был обмотан вокруг тела. И тут все увидели и унюхали, что из-под моего друга течет ароматная струя. Тогда его немедленно обыскали, и открылась тайна безденежного выноса парфюмерной продукции. После этого произвели обыск на дому и взяли с Гоши подписку о невыезде. Тося Табуретка сумела увильнуть от ответственности, все свалила на моего многострадального друга и немедленно оформила развод. Гоша перебрался обратно в нашу комнату и стал ждать суда и возмездия. Вскоре пришла повестка.
– Вся беда началась с этого золота, оно-то нас с тобой и погубило, – высказался Гоша, собираясь на суд. – Пусть меня судят и засудят, так мне, гаду, и надо! Польстился на то, что блестит!
– Гоша! – сказал я другу. – Может, я должен тебя сейчас утешать, но никакие утешительные слова не идут мне на ум. Мне и тебя жалко, а еще больше таланта твоего жалко. Знаешь, что заявил о себе император Нерон, когда его вели на расстрел? «Какой великий артист погибает!» Но Гоша только махнул рукой в ответ на эти слова. Конечно, дали ему не расстрел, а два года, да и то условно, принимая во внимание искреннее раскаяние и тяжелое детство. Однако все эти уголовные события надломили его хрупкий талант. Перед широкой публикой он никогда больше не выступал. А вдобавок его уволили с работы.
* * *
Теперь мы оба оказались у разбитого корыта, оба сидели без денег. Мы даже подушки, одеяла и все остальное снесли на толкучку и спали на панцирных сетках. В комнате остались две голые кровати, мы с Гошей да на стене картина «Рассвет на озере» – вот и вся меблировка. И тогда мы с другом созвали экстренное совещание, и оба приняли единогласное решение, что такое положение больше недопустимо. Мы постановили начать новую трудовую жизнь.