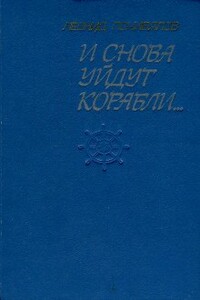Смолин возмутился:
— Ладно, положим это так, хотя я шибко сомневаюсь. Но почему вы утаили? — Ему показалось особенно кощунственным именно это — утайка. — Почему? Мы же с вами ученые. Такое среди ученых быть не должно. Это же нечестно!
Рачков вздохнул горестно, свидетельствуя этим, как ему нелегко вести разговор.
— Вы такой авторитетный ученый, на судне у вас особое положение, как тут сказать? А вдруг обидитесь!
— И насплетничали Чайкину? Так?
— Поделился…
Смолин молча прошелся по залу, поглядел на работающие аппараты, прислушался к их тихому стрекоту — он напоминал однотонный гомон цикад в летний вечер. Забыв про Рачкова, выхаживал операционный зал от стены к стене и чуть не вслух разговаривал сам с собой.
Не может такого быть! Вполне вероятны в концепции слабые и даже уязвимые части, это он допускает. Но чтобы вот так, одним махом, поколебать основы! Приговор какой-то машины, случайной машины на случайном судне в случайном для него рейсе…
— Я бы хотел все это проверить сам. Можно?
— Конечно! — Рачков искренне обрадовался, словно просьба Смолина его в чем-то оправдывала. — Когда хотите. В любой момент. Отложим все. Ведь я же к вашей концепции… со всей душой.
— Хорошо. Подумаю и сообщу! — Смолин снова поймал себя на том, что тон приказной.
— Уж извините меня…
Смолин взглянул на Рачкова с удивлением:
— Да вы что? Можно сказать, услугу оказали и вдруг извиняетесь.
Рачков почесал затылок:
— Так ведь я привык к разному. Некоторые к выводам машины относятся болезненно. Один профессор чуть не разбил блок. Так разобиделся.
Смолин засмеялся, но смех был не столь уж искренний, скорее нервный.
— Я не буян, — сказал с шутливым бодрячеством. — Конечно, ваша машина ехидная штука. Охотно бы ее укокошил. Да бог с ней — пусть живет!
Положил руку на плечо Рачкова:
— Спасибо!
Он поднялся наверх, вышел на кормовую палубу, которую прозвали Бродвеем. После ужина здесь по шершавым доскам, как по тротуару, прогуливаются любители свежего воздуха. Вот она, жизнь корабельная: выхаживают от борта к борту — парами, тройками, в одиночку, как заключенные на прогулке в тесном тюремном дворе. И так каждый вечер. А что делать? Море! Куда от него денешься? Смолин где-то прочитал, что издавна определено семь главных морских страстей: страх, голод, жажда, одиночество, жалость к себе, раскаяние и надежда. Пожалуй, из этого перечня можно исключить лишь голод и жажду, остальное в полной мере подходит к его самочувствию.
У борта столпились молоденькие лаборантки, оттуда доносился бойкий тенорок Ясневича:
— Ну а после банки Шарлотт мы прямиком в Карибское море. Через Наветренный пролив, который между Кубой и Гаити. Потом…
— Гаити! Как красиво звучит! Вы, Игорь Романович, конечно, бывали на Гаити?
— На Таити бывал, а на Гаити еще не приходилось, — с мягкой снисходительностью улыбнулся Ясневич. — Там даже Доброхотова не была. И не могла быть. На Гаити фашистский режим. Диктатура семьи Дювалье. Террор тонтонмакутов.
— Кого?
— Тонтонмакутов. Не слышали?
— Нет! — разом выдохнули лаборантки, подавленные эрудицией заместителя начальника экспедиции.
Просветительную речь Ясневича Смолин не дослушал — навстречу шла Ирина.
— Костя, что с тобой? Поругался с Золотцевым?
— Почему ты решила?
— Почувствовала по тому, как ты держался на совещании.
— Не поругался, а сказал то, что думаю.
Он услышал ее короткий вздох:
— Вот ты так всегда: что думаешь, то и режешь.
— А разве это плохо?
— Когда как. Если режешь, надо всегда помнить, что кому-то больно от твоего лезвия… — И поспешно, словно испугавшись, что обидела, добавила: — Извини, Костя, я тебе не посторонний человек, знаю тебя, вот и тревожусь…
— Вот уж ни к чему! — недобро усмехнулся он. — Тебе бы только тревожиться, все равно за кого. Но за меня не надо! Пожалуйста! Что я тебе?
Ирина опустила голову, с губ слетело чуть слышное:
— Извини!
Всю ночь Смолин просидел в студеном, залитом холодным светом зале, который напоминал ему пещеры в прибрежных айсбергах Антарктиды. Рачков предоставил машину в полное его распоряжение и предложил помочь. Нет уж! Весь новый цикл расчетов он сделает один и только один!