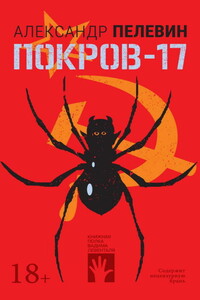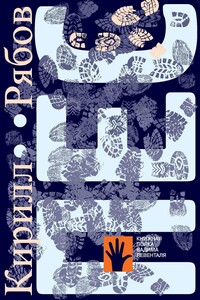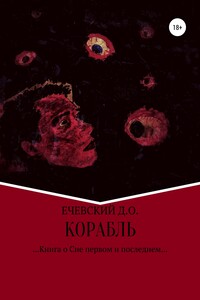Мое трагическое свойство — ватный колодец памяти с глубиной и состоянием дна для меня неизвестными, что сказывается на моем восприятии многих свойств мира. Я сложными способами признаю знакомых, но лица киноактеров забываются до их нового явления. Телефонные цифры для меня на одно лицо, зато я улавливаю адреса, звучащие в кинофильмах или встреченные в книге. Вообще сор, окружающий выдуманных героев, хранится мной почти без труда. Эти мелочи, эту ерунду, которую никак нельзя сопоставить с настоящей памятью, я собираю горстями. Но все, что касается подлинных имен, живых человеческих слов, готовых фраз, цитат, слов другого языка, все это бесконечно летит в колодец, и я не слышу отзыва окончательного приземления. На память жалуются все люди, и прав Ларошфуко, замечая (цитирую по детской записи, прирученной при помощи квадратного персикового блокнота), что почему-то никто при этом не жалуется на недостаток ума.
В школе мою память пытались воспитать, мне повезло с классной руководительницей, которая вела чтение и русский язык, вела их так, что оба предмета — с одинаковым чудом и информативностью — превращались в сказочный театр. Возможно, это неуместно для современной сцены, но наша Тамара Владимировна использовала дребезжащие завывания, заламывания рук, скачки в сторону, умоляющий шепот и такие роскошные паузы, что с тех пор я остаюсь холоден ко всем ухищрениям подлинного театра, но умею читать и воспринимать язык особыми всплесками охлаждения и жара в легких. Впрочем это никак не касается других языков. И поэзии — ведь, как говорила Тамара Владимировна, восприятие стихов происходит неожиданно, мгновенным взрывом, когда они уже обкатаны в нашем сознании. Одним словом, их необходимо заучивать… А этот процесс для меня возможен лишь в своей безгрешной условности.
Движение запоминания строится у меня по всем древним правилам, я знаю тысячи греческих ухищрений, все эти лунки в стене и трещины на колоннах, в которые оратор вкладывает отломанные мякиши речевых сегментов, чтобы потом, мысленно повторяя путь по знакомому проходу в любимом портике, свободно изливать на восхищенного подсудимого обвинения в политической измене. Я свято соблюдал маршруты по знакомым путям, и без стыда признаюсь, что подобные уловки всегда помогали мне сносно отвечать урок. Я аккуратно обходил все тайники, собирал лежащие в них запасы, называл их вслух и тут же проглатывал. Лучше всего мне удавалось использование внутренних шагов по своему домашнему коридору (пальто, плащ, детская вешалка в виде тощей таксы, по другую сторону — каретный светильник, зеркало с черными завитками…) или прогулка по дорожке на даче, но все это само по себе требовало баснословных усилий. Легче получалось заучивать заданный параграф по рисунку класса с сидящими за партами одноклассниками с навсегда определенным местом (и нередко позой) для каждого. Я придумал хороший маневр, чтобы не обременять память лишними усилиями в момент ответа и не беспокоиться о том, что мной пропущена какая-то домашняя мелочь. Выходя к доске, я попросту адресовал каждую фразу стерильного для себя текста двойной цепочке невнимательных рожиц, и, если кто-то отвернулся или отсутствовал, меня это не сбивало, его место было ненадолго занято пустой фразой. Какой именно и кто из одноклассников символизировал ее, уже не знаю, не могу привести примера. Хотя предполагаю взрыв бессвязных фраз о полезных ископаемых в Забайкалье, хоругви Александра Невского, о неустойчивой валентности ионов на каждом лице, когда в старости, еще более склеротической, открою школьный альбом. Может, как в случае возрастного перехода близорукости в дальнозоркость, и у меня пойдет волнующая прорва воспоминаний. Я начинал с первого ряда и редко доходил до второго, отправляясь с пятеркой на свое место для прилежных учеников в начале ряда, идущего вдоль окна. В своих ответах я редко использовал этот ряд, поэтому треть моего класса так и осталась за моей спиной, где обычно бесшумно сидела.