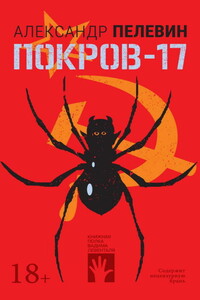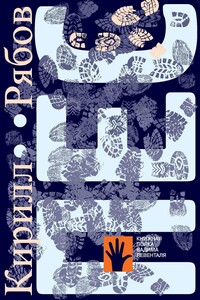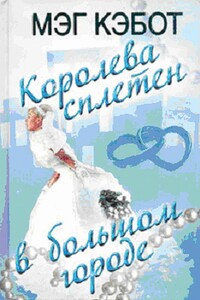Она мельком вспоминала знакомых. Штурман гастролировал с новой группой, Вальдшнепов хорошо смотрелся по телевизору, Никита по-прежнему в тяжелом состоянии, Блинова открыла магазинчик садовых гномов и водит машину. В Москве теперь не у кого будет остановиться, так как наша общая знакомая уходит в декрет и, кажется, вот-вот вернется домой. Сюда.
— Куда ты все время смотришь? — спросила она. — Давно с ней не виделся?
— Год-два, — я был не уверен, нужно было проверить записи.
— О ком это? — напомнил о себе жених.
Она ответила с затейливой дерзостью во взгляде:
— О Юлии.
— Выходит, — заметил он, недалеко ходя за шуткой, — я не все о тебе знаю. Живешь в Москве? А можно подробнее о декрете?
Тощая понял, что ради этого известия (и немного — одним затупленным краем бытовой мстительности — ради сравнения меня с женихом) я и был вызван из вечного своего одиночества.
— Когда? — спросил я с безгрешной мягкостью великой благодарности.
— Сроки ставят на конец осени. Представляешь, у кого-то из нас уже будут дети! — и Юлия неустойчивым взглядом пифии вгляделась в свое незатейливое будущее, растормошила жениху волосы и тут же ласково их пригладила, шутливо вздохнув от бремени такой заботы.
— Его мама, — проговорила она мне, значительно поведя глазами в сторону моего соседа, — работает на фабрике детского питания и уже обещала поставлять нашим друзьям сухое молоко «Кибела». Это лучшее.
Снаружи кулака, на фаланге его безымянного пальца, была проставлена цифра 1, на среднем — 4, и обе с готической претензией, с еле уместившимися завитками, которые пошли уже расплываться. Армейская метка, — других татуировок я не увидел. Все время меня поражало, насколько его взгляд, осторожный, как у подростка, подходил неудачливому ухажеру. Он позволил бы мне все вольности, захоти я отстоять привилегии старого друга. Он вызывал мое невольное соучастие в течение пяти с лишним часов нашего беспечного гуляния (парк — набережная — автобус — парк — пыльная улица — скверик перед ее домом), а потом — в последние годы — я совсем не видел его. На их свадьбе это произошло потому, что я уступил место свидетеля жениха (а только на него меня и звали) Юлиному кузену из украинской деревеньки, а все его приезды — уже счастливого мужа — обходились без моего участия. Думаю, даже после заключения брака его взгляд сохранил эту подростковую диковатость, из-за которой он все время исчезал и посреди разговора, и из снов про Юлию, и этой юношеской пугливости не помешало ни утяжеление подбородка (печальная деформация для его биллиардной геометрии), ни брезгливое расползание губ, ни увеличение карьерного веса.
У ее супруга открылась странная профессия (а я поначалу определил его в цирюльники) — две трети года были заняты зарубежными разъездами по делам шоколадной компании, а по возвращении — огромные траты и подарки. Юлия сразу увольнялась со своей очередной работы, несколько недель бывали упрятаны в их комнате, обставленной цветами и редчайшими алкоголями. Новый отъезд мужа оставлял Юлию без куска хлеба в еще тлеющем начале депрессии, она становилась нудной, выносила из комнаты крошащиеся охапки роз, искала работу. Когда у меня появилась зудящая коробочка пейджера, то на фоне более ядовитой, чем ее глаза, зелени всплывали рифмованные строчки. В ее распоряжении оставалось несколько дорогих воспоминаний, некоторые из них, как это ни странно, были похожи на мои и на меня переносились.
Какой же варвар-парикмахер все-таки решился это сделать? Я с трудом пережил укрощение ее волос, с которыми могло срезать половину моего мира (если верить Бодлеру в доступной мне части его лирики). Любому ветру приходится грустить о том, что он не трогает теперь таких волос, которые замедленной шелковой щекоткой сопровождали ее шепот. Она почему-то любила шептаться. Пленительная манера, никак не оправданная ни посреди улицы, ни в пустом автобусе, ни в глухой комнате, и я почему-то никогда не мог этого шепота разобрать, будто это были стихотворные импровизации.
Но была и другая — изначальная — Юлия, с которой через полгода я уже понадеялся снова увидеться. Ее родительный приезд не то чтобы возвращал меня к жизни, но мог значить для меня настоящее ее начало. Тот муж и его ребенок — были, конечно, единственной сутью истории, но я все еще ждал не истории, а себя самого.