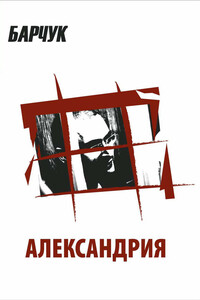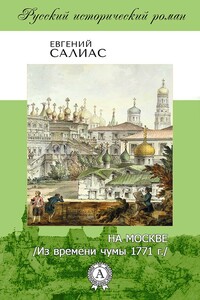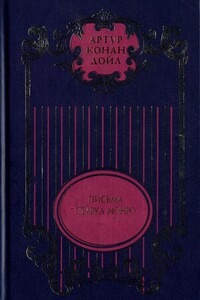Первым сделал шаг навстречу Николай. Он подошёл вплотную к брату, посмотрел в его небесно-голубые глаза и быстро обнял его, чтобы Александр не увидел его слёз.
— Оказывается, не только Христос воскрес из мёртвых, — проговорил он, уткнувшись в мягкую бороду.
— Не богохульствуйте! — строго сказал Александр. — Хотя я и прошёл Дорогой скорби, по которой нёс свой крест Спаситель, но в царстве мёртвых, в отличие от него, не был. Правда, не раз уже готовился отправиться туда.
— Но почему ты не писал мне? — с обидой спросил император.
— Извините, у меня не было возможности писать.
— Но где ты был все эти годы?
— Скитался по свету. Жил в монастырях, у простых людей, много молился. Много где был, Ваше Величество, всего и не упомнишь.
Император прошёлся по комнате и снова встал возле окна.
— А я вот царствую, несу бремя власти. Иногда завидую твоей бесшабашной удали. Вот так взять бы и бросить всё, и уплыть, куда глаза глядят. Путешествовать по разным странам и морям. Это ли не счастье? Но я так не могу. Чувство долга, ответственность за страну не дают мне сделать это. В отличие от тебя, я не мистик и не романтик. Я не люблю философии. Мне нравятся инженеры. Надо заниматься не любомудрием и поиском смысла жизни, а строить крепости, мосты и дороги. Во всём должен быть точный расчёт и порядок. А для этого нужны сильная власть и закон. Я есть их олицетворение в Российской империи. Знаешь, как меня называют придворные? Весьма поэтично — «Дон-Кихот самодержавия». В моём царствовании нет твоего блеска. Я не расширил, как ты, границы империи. За эти одиннадцать лет я присоединил только два кавказских ханства. Хотя мог бы поддержать восстания балканских народов против османов и осуществить вековую мечту нашей династии — завладеть Константинополем. Но я этого не сделал. И даже вопреки имперской логике, когда нашему заклятому врагу турецкому султану пришлось совсем туго, я пришёл ему на помощь и послал наш десант на берега Босфора. Никто — ни англичане, ни французы, ни австрийцы — не поверил в моё бескорыстие. А зря. Я и поныне убеждён, что народы должны быть покорны своим верховным правителям, какую бы веру они ни исповедовали: христианскую или магометанскую. Без этой покорности невозможна никакая империя.
Николай Павлович подошёл к столику, на котором стоял принесённый Клейнмихелем графин с водкой.
— Выпьем за встречу? — предложил он брату.
Александр отрицательно покачал головой.
— Я никогда не любил водку. А сейчас вообще не пью.
— Как хочешь, — сказал император, налил себе рюмку и выпил её одним глотком.
Потом спросил:
— Зачем ты только дал этим полякам конституцию?
Александр промолчал.
— Ты же знал, что я всегда буду чтить законы, какими бы они ни были. Это вы с Константином, потакая во всём полякам, спровоцировали их на восстание. Не было бы вашей конституции, не пролились бы реки крови. Вы меня подставили в очередной раз. Белоручки и чистоплюи! Наворотили дел, расплодили вольнодумцев, а расхлебывать заваренную вами кашу пришлось мне. Я удивляюсь, как меня не убили на Сенатской площади в первый день моего царствования. Я взял на себя грех и вздёрнул на виселице главарей бунта, а остальных отправил в Сибирь и на Кавказ. Зато империя цела! И в том моя заслуга, а не твоя. Это моё царство!
— Я знаю, — тихо произнёс старший брат.
— Зачем ты тогда вернулся?
— Хочу умереть на Родине.
— Это можно устроить быстро.
— И это знаю.
Николай ещё налил водки, но пить не стал.
— И как ты себе представляешь свою жизнь здесь? — спросил он Александра.
— Я очень виноват перед вами и Отечеством, — тихо начал странник. — Мне нет прощения, и я готов понести любое, самое тяжкое, наказание. Вы правильно считаете меня соучастником декабристов и польской смуты. Я готов разделить участь этих людей.
— Виселица или каторга?
— Вам решать.
Николай Павлович задумался, затем поднял рюмку и сказал короткий тост:
— За твоё здоровье, брат!
А потом спросил:
— Почему бы тебе не удалиться в монастырь и там замаливать свои грехи? Ты же ради этого оставил трон?
— Мои устремления сильно изменились с той поры. Бог всегда пребудет в моей душе, но монашеское послушание — не для меня. Всё равно я был и останусь светским человеком, и грех гордыни мне вряд ли удастся в себе преодолеть. К тому же я уже отпет. Мне не нужно никакое богатство. Я готов к самой жалкой жизни. Роскоши материальной я предпочту богатство духа. Но всё же я хотел бы жить в миру, среди людей.