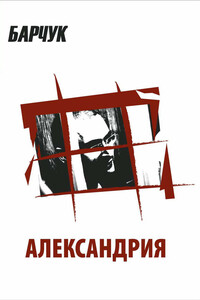— Вот, значит, какие воспоминания на тебя навеяло наше купание, — задумчиво произнёс Фёдор Кузьмич. — Лучше б вспомнил, как французы в Березине в такую же погоду купались! Быстрей согреешься, а от мрачных дум ещё больше замёрзнешь. Я тебя как с Хромовым-то увидел, чуть не перекрестился со страху. Думал, видение с того света явилось. Знаешь, за кого вначале тебя принял?
— За кого?
— За Наполеона!
Батеньков не поверил своим ушам и не знал, как воспринимать слова старца: то ли как похвалу, то ли как оскорбление.
— Истинный крест! — молвил Фёдор Кузьмич и перекрестился. — Здорово похож. Если бы Наполеон дожил до твоих лет, он бы в точности как ты выглядел. Тебя надо было диктатором делать, а не труса Трубецкого, тогда б у вас что-нибудь и вышло.
Фёдор Кузьмич налил себе ещё чаю и спросил:
— А почему ты так говоришь забавно — слова, как дрова, рубишь?
Батеньков опять посерьёзнел, но ему, похоже, уже надоело обижаться, и он просто ответил:
— Я же в камере совсем одичал. Потерял счёт дню и ночи. Сейчас по ночам вообще мало сплю. Выйду на улицу и гуляю. А говорить и вовсе разучился. Угадайте, с кем я в каземате разговаривал?
— С Богом?
— Дался вам этот бог! Он всё равно ничего не слышит и не видит. Я разговаривал с тварью отзывчивой. С мышонком.
— С кем, с кем? — Фёдор Кузьмич не расслышал.
— С мышью! — прокричал ему в самое ухо Батеньков. — Я его хлебом и лаской к себе приручил, он у меня потом такой ручной и ласковый стал. Внимательно слушал все мои стенания и попискивал с пониманием.
Декабрист тоже подлил себе чайку. Отхлебнув душистого отвара, он продолжил:
— А с богом у меня было другое общение. Ваш братец вот какое наказание для меня выдумал — лишил меня всякой связи с внешним миром. Из книг мне разрешалось читать одну Библию. Я её наизусть выучил. А потом даже развлечение придумал. Я же кроме русского знаю немецкий и французский, а из древних языков — еврейский, латинский и греческий. Вот и попросил своего старого боевого друга принести мне Библии на всех этих языках. Тем и коротал время, что сличал особенности перевода.
— Богослов, выходит, ты знатный, да только одна беда — в Бога не веруешь, — заметил старец.
— В него что верь, что не верь — один исход. Если он есть, то почему допускает такую несправедливость на земле! Пестель, Бестужев, Каховский, Рылеев и Муравьёв-Апостол оказались на виселице. Не меньше ста человек — на каторге, тысячу солдат прогнали сквозь строй, а других сослали на Кавказ. Виновник всей этой кровавой вакханалии ещё тридцать лет держал страну в страхе. Потопил в крови восстания в Польше и Венгрии. Всю Европу настроил против России. Французы с англичанами заодно воюют против русских! И где? В Крыму! Когда такое было? В петербургских газетах пишут, что и перед Кронштадтом появился английский флот. Николай Павлович, говорят, даже наблюдал в телескоп перед смертью за их эскадрой. Каково же ему было умирать! В Томске слух прошёл, что царь не смог вынести позора и отравился. Вы ему в наследство оставили мощную державу, а он превратил её в колосса на глиняных ногах. Только тронь, сразу рассыплется.
Фёдор Кузьмич встал, подошёл к печи и пощупал одежду: не высохла ли? Недовольно покачал головой и вернулся за стол.
— А ты на Бога ропщешь, Гавриил. Каждому воздастся по заслугам его. С царя за его деяния спрос особый.
— Слушайте! — Батеньков схватил старца за рогожу. — Как вы думаете, племянник-то ваш, тёзка, Александр Второй простит нам Сенатскую площадь и дозволит вернуться в европейскую Россию? Хоть я и люблю Сибирь, всё ж хочется дожить оставшиеся дни в тепле. Помилует меня новый царь?
— Помилует, обязательно помилует, — успокоил гостя Фёдор Кузьмич, а потом пристально посмотрел ему в глаза и стал приговаривать усыпляющим голосом: — Ты устал, Гавриил. Очень устал. Твои глаза закрываются. Тебе хочется спать. Ты засыпаешь. Тебе снятся только хорошие сны. Ты молод и счастлив. Тебе хорошо. Очень хорошо. Ты спишь. Крепко спишь. А когда проснёшься, то ничего не вспомнишь о нашем разговоре. Ты меня прежде никогда не знал. Я всего лишь бродяга, не помнящий родства. Фёдор Кузьмич. А теперь — спать! Спать! Спать!