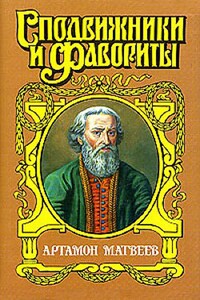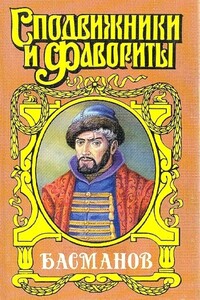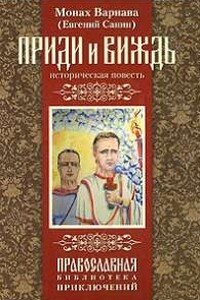Итак, мы три недели путались и приехали в свои деревни, которые были на полдороги, где нам определено было жить.
Приехавши, мы расположились на несколько время прожить, отдохнуть нам и лошадям; я очень рада была, что в свою деревню приехали[56]. Казна моя уже очень истончала; думала, что моим расходам будет перемена, не всё буду покупать, по крайней мере, сена лошадям не куплю; однако я недолго об этом думала; не больше мы трёх недель тут прожили; паче чаяния нашего вдруг ужасное нечто нас постигло. Только что мы отобедали — в этом селе дом был господский и окна были на большую дорогу: — взглянула я в окно, вижу, пыль великая на дороге; видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут. Когда стали подъезжать, видно, что все телеги парами, позади коляска...[57]; все наши бросились смотреть; увидели, что прямо к нашему дому едут; в коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты двадцать четыре человека. Тотчас узнали мы свою беду, что ещё их злоба на нас не умаляется, а больше умножается. Подумайте, что я тогда была! Упала на стул; а как опомнилась, увидела полны хоромы солдат. Я уже ничего не знаю, что они объявили свёкру; а только помню, что я ухватилась за своего мужа и не отпускаю от себя; боялась, чтоб меня с ним не разлучили. Великий плач сделался в доме нашем: можно ли ту беду описать? Я не могу ни у кого допроситься, что будет с нами, не разлучат ли нас. Великая сделалась тревога; дом был большой, людей премножество, бегут все из квартир, плачут, припадают к господам своим, все хотят быть с ними неразлучно; женщины, как есть слабые сердца, те кричат, плачут. Боже мой, какой это ужас! Кажется бы, и варвар, глядя на это жалкое позорище, умилосердился. Нас уже на квартиру не отпускают: как я и прежде писала, что мы везде на особливых квартирах стояли, так не поместились в одном доме, мы стояли у мужика на дворе, а спальня наша был сарай, где сено кладут. Поставили у всех дверей часовых, примкнули штыки. Боже мой, какой это страх! Я от роду ничего подобного этому не видала и не слыхала. Велели наши командиры кареты закладать; видно, что хотят нас везти, да не знаем куда. Я так ослабела от страху, что на ногах не могу стоять.
Войдите в моё состояние, каково мне тогда было! Только меня и поободряло, что он со мной, и всё, видя меня в таковом состоянии, уверяют, что я с ним неразлучна буду. Я бы хотела самого офицера спросить, да он со мной не говорит, кажется неприступный; придёт ко мне в горницу, где я сижу, поглядит на меня, плечами пожмёт, вздохнёт и прочь уйдёт, а я спросить его не осмелюсь.
Вот уже к вечеру велят нам в кареты садиться и ехать. Я уже опомнилась и стала просить, чтоб меня отпустили на квартиру собраться; офицер дозволил. Как я пошла, и два солдата за мной; я не помню, как меня мой муж довёл до сарая того, где мы стояли. Хотела я с ним поговорить и сведать, что с нами делается; а солдат тут, ни пяди от нас не отстаёт; подумайте, какое жалостное состояние! И так я ничего не знаю, что далее с нами будет. Мои домашние собрались; я уже ничего не знаю; они сели в карету и поехали; рада я тому, что я одна с ним, можно мне говорить, а солдаты все за нами поехали. Тут он мне сказал: офицер объявил, что велено вас под жестоким караулом везти в дальние города, а куда — не велено сказывать. Однако свёкор мой умилостивил офицера и привёл его на жалость; сказал, что нас везут на остров[58], который отстоит от столицы на четыре тысячи вёрст и больше, и там нас под жестоким караулом содержать, к нам никого не допущать, ни нас никуда, кроме церкви, переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать. Подумайте, каковы мне эти вести; первое — лишилась дома своего и всех родных своих оставила, я же не буду и слышать об них, как они будут жить без меня; брат меньший мне был, который меня очень любил; сёстры маленькие остались. О Боже мой, какая это тоска пришла! Жалость, сродство, кровь вся закипела от несносности. Думаю я, уже никого не увижу своих, буду жить в странствии; кто мне поможет в напастях моих, когда они не будут и ведать обо мне, где я; когда я ни с кем не буду корреспонденции иметь или переписки; хотя я какую нужду ни буду терпеть, руки помощи никто мне не подаст; а может быть, им там скажут, что я уже умерла, что меня и на свете нет; они только поплачут и скажут: лучше ей умереть, а не целый век мучиться! С этими мыслями ослабели все мои чувства, онемели, а после полились слёзы.