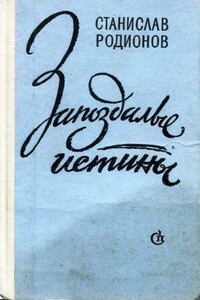Смычок драл струны, вытягивая звук не только из скрипки, но и из самой души.
Там сидела Мурка
в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Патлатый лабух краснел от натуги, пытаясь выдержать высокую ноту. Не самый сильный у него голос, но парень старался. Еще бы, такая песня! Зато худосочный очкарик виртуозно наяривал смычком, вытягивая из скрипки нерв и вышибая слезу. И так ловко у него это получалось, что ни гитары не слышно, ни даже ударных.
Мурка, ты мой Муреночек,
Мурка, ты мой котеночек...
Сильно, душевно, пронзительно.
Мощная песня, не вопрос. Только не фонтан какой-то в тексте. «Раз пошли на дело, выпить захотелось, мы зашли в шикарный ресторан». Какой кабак, если дело еще не сделано? Сначала дело, потом все остальное...
Вот у Юры Фурмана все по уму. Он сначала восемь лет отмотал, от звонка до звонка, как и положено правильному пацану. А когда откинулся, на свои кровные заказал поляну в том самом шикарном ресторане. Халдей суетится, лабухи слух греют, девчонка за соседним столиком глаз радует. Все путем, короче. Водка рекой, душа поет, жизнь удалась...
А девчонка, что за соседним столиком, хороша. Длинные темно-русые волосы, лицо – из лучших фондов природы, кожаная жакетка, короткое черное платье с люрексом. Не похоже, что у нее наган под пиджачком, но под платьем точно – драгоценный клад для оголодавшего мужчины.
Шесть лет у Фурмана не было женщины... Ну, это версия для корешей. А если по чесноку, с бабой он вообще никогда не был. Заочно-ручное общение не в счет.
В шестнадцать лет он сел. За убийство. Темным вечером мужика в парке зарезал, по классическому сценарию – гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Терпила сам виноват был. Юра с ним по-человечески, нож к горлу – кошелек или жизнь? Ну, тот дернулся, а острый нож в шею по самую рукоять вошел. Кровищи было, жуть... Два года на малолетке отмотал, шесть – на взросляке. А ведь цель была так близка! Деньги хотел взять, чтобы Таньке цветы купить, ну, и бутылку портвейна. У нее предки куда-то уехали на пару дней, она Юру к себе домой на огонек пригласила, но брыкучий мужик все испортил. Нет чтобы спокойно лопатник отдать, так он вдруг народным дружинником себя возомнил. Хорошо, что терпила пьяный был, а то могли бы все пятнадцать лет за него впаять. Хотя и восемь – такой же большой минус по жизни, как серпом по яйцам.
Но ничего, сейчас ему двадцать четыре, вся жизнь впереди, надейся и жди. И Таньки у него будут, и Маньки, и прочие прелести жизни. Главное, нос по ветру держать.
– Ну, ты мужик, Фурман. Давай за тебя!
Юра недовольно глянул на Косого. Этот уже в дупель уелся – и без того косые глаза вообще, казалось, местами поменялись, и язык еле ворочается. Как бы на руках домой тащить не пришлось. Впрочем, не для того Фурман восемь лет мотал, чтобы со всякой пьянью нянчиться. Сам доползет. Отоспится под столом и доползет.
– Я тебе не мужик, понял! Я блатной, понял? В авторитете!
Фурман хорошо помнил, как его гоняли на «малолетке». Одна только прописка чего стоила! Со второго яруса вниз головой сигать пришлось, с завязанными глазами. Его на одеяло хотели поймать, а рука у кого-то дрогнула, и он со всей силой об пол. Две недели потом в больничке с гипсом на шее провалялся. Затем сам над новичками издевался, понятиям учил. Но в авторитеты тогда не выбился. Да и на взрослой зоне, честно говоря, выше бойца подняться не смог. В свите у смотрящего по бараку ошивался, с неугодными разбирался, с беспредельщиками на разборках дрался, с кавказцами на ножах сходился. Ну так молодой он еще, чтобы реально в авторитете быть; ему бы еще три-четыре года, он бы и сам отрядным смотрящим стал...
– Ну, извини, если обидел, – в тяжелом пьяном раздумье медленно почесал у себя за ухом Косой.
– Меня нельзя обидеть, понял! Меня можно только оскорбить... А-а!
Не в том состоянии был сейчас Косой, чтобы вникать в толкования. Совсем никакой. И Горемыка тоже лыка не вязал. Смотрел на Фурмана, как верблюд в зеркало, – глаза таращил, но ничего не соображал.
И Косой, и Горемыка – чужаки в этом кабаке. Музыка их не волнует, бабы не греют, им бы нажраться в лежку, вот и все счастье. Грузчиками они работают на железнодорожной станции; утром опохмеляются, вечером бухают, а в перерывах пашут и спят. В этом вся их жизнь, к другому они даже не стремятся. Фурман восемь лет за колючкой провел, и то выглядит сейчас лучше, чем они. Зеленые джинсы, кожаная куртка – неважно, что из кусочков сшитая, затертая; главное, смотрится он в ней круто. А Косой и Горемыка выглядят как оборванцы, если б не Фурман, официант и обслуживать их не стал бы. Правда, при всей своей зачуханности Косой и Горемыка смотрятся внушительно. Рослые, мощные, а сила в руках такая, что батарею парового отопления как гармошку порвут. Да и рожи те еще, без содрогания на них не взглянешь. Что у одного грубые и тяжелые черты лица, что у другого. Хотя у Косого физиономия вытянута в длину, а у Горемыки – в ширину, у одного губы толстые и слюнявые, а у другого их вообще не видно. Зато у Горемыки брови такие косматые, что сам Брежнев позавидовал бы.