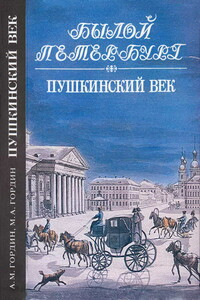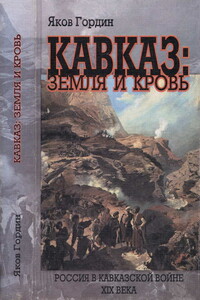и поднял ее кверху.
— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.
— Орел! — сказал я.
Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.
— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! — даю вам честное слово.
Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.
— Пора, — шепнул мне доктор, дергая за рукав: — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало… Посмотрите, он уже заряжает… если вы ничего не скажете, то я сам…
— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку: — вы всё испортите; вы мне дали слово не мешать… Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит…
Он посмотрел на меня с удивлением.
— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь.
Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то, другой мне.
Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногой в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.
Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.
Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.
Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту:
— Не могу, — сказал он глухим голосом.
— Трус! — отвечал капитан.
Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.
— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, — сказал капитан: — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха: — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — всё вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!
После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку; ибо раненый в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.
Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.
— Я вам советую перед смертью помолиться богу, — сказал я ему тогда.
— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.
— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?
— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан: — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить… Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.
— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.
Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.
Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор.
— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!
— Не может быть! — кричал капитан: — не может быть! я зарядил оба пистолета, — разве что из вашего пуля выкатилась… Это не моя вина! — А вы не имеете права перезаряжать… никакого права… это совершенно против правил, — я не позволю…
— Хорошо, — сказал я капитану: — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях…