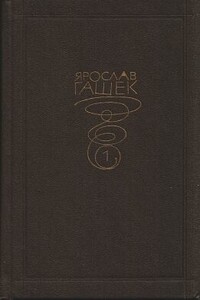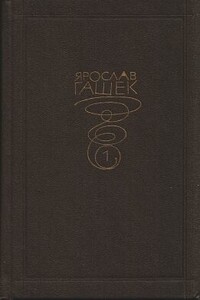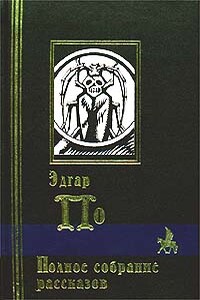Наталия взяла у мужа лист бумаги и слегка нахмурившись (что очень было ей к лицу) стала читать.
— У тебя тут ошибка, — сказала она Пушкину. — У тебя тут сказано «Александрийского столпа». Такого слова нету. Ты, вероятно, хотел написать «Александрийского столба».
— Нет, — ответил Пушкин. — Я именно хотел написать «столпа», а не «столба». Такое слово есть.
— Нету, — сказала Наталия. — Но разве с таким упрямцем, как ты, можно спорить?
— Есть, — повторил Пушкин. — Если бы не было слова «столп», мы говорили бы «столботворение», а не «столпотворение».
— Может быть, ты прав, — сказала Наталия Пушкина. — Я спрошу дядю Митю. Он дружил с Карамзиным. Ухожу, ухожу и больше не буду мешать. Пиши.
— Да ты мне не мешаешь, — сказал Пушкин, и, выхватив из рук жены лист, снова взялся за писание.
Третья строфа удалась хорошо. Пушкин даже просиял от удовольствия, когда написал «…и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык».
В комнату неожиданно вернулась Наталия.
— Самое главное забыла тебе сказать, — промолвила она. — Напомнить тебе, Саша, что сегодня вечером прием у Бенкендорфов. Я обещала непременно быть.
— Сколько раз, Натали, я тебе говорил, что ни за что к Бенкендорфу не поеду! — запальчиво воскликнул Пушкин. — Я этого человека ненавижу.
— Ненавидишь, ненавидишь, — сказала Наталия. — Ты всех ненавидишь. Постоянно возишься с какими-то неудачниками, вроде этого Гоголя, а достойных людей, от знакомства с которыми и тебе же может быть выгода, ненавидишь. Я обещала графине, что мы оба будем. И платье себе уже сшила.
— Хорошо, хорошо, пойду, — сказал, насупившись, Пушкин.
Наталия вышла, и Пушкин снова взял в руки перо. Но работа уже не клеилась. В голову приходили какие-то несуразные мысли о клеветниках, которых так трудно опровергать, и о глупцах, которых так трудно оспаривать.
Когда у царя фригийского Мидаса, по воле Аполлона, выросли на месте ушей ослиные уши, он сильно расстроился и не знал, что делать. После долгих размышлений Мидас нашел выход. Он сшил себе особый головной убор, который покрывал его уши, и никогда ни при каких обстоятельствах его не снимал. Когда кто-нибудь выражал недоумение по поводу отказа Мидаса снять шапку, царь с невозмутимым видом отвечал, что он перешел в иудейство.
Но одному человеку Мидас все же оказался вынужденным свою тайну раскрыть — цирюльнику. Как-никак, но Мидасу время от времени все же приходилось стричься. Царь приказал цирюльнику торжественно поклясться ему никогда никому ничего об ослиных ушах не рассказывать.
И вот начались мучения царского цирюльника. Этот человек занялся не той профессией. Он был прирожденный журналист. Несколько лет носился он с секретом, страдал, изнывал, метался во все стороны. Раз даже, брея царя, он чуть ему не перерезал горло, чтобы таким образом избавиться от секрета. Наконец, он не выдержал, выбежал в безлюдное место, вырыл в земле яму, всунул в яму голову и выпалил свой секрет: «У царя Мидаса ослиные уши!»
И ему сразу же стало легче. А так как земля всегда полнится слухами, то через короткое время всему миру стал известен царский секрет.
А цирюльник основал газету «Фригийские новости».
В 1430 году профессор Пражского университета, Богумил Пружинка, решил написать биографию своего бывшего ректора, профессора Яна Гуса.
Гус был сожжен, как еретик, в 1415 году, а Пружинка тогда был только доцентом. Сразу же после сожжения Гуса о его последних минутах стали распространяться всякого рода легенды. Из них, однако, одна приобрела особенную популярность. Касалась она некоей богомольной старушки, которая подошла к костру, когда на нем горел Гус, и подбросила в огонь еще одно полено. Увидев это, Гус, якобы, воскликнул: «О, санкта симплицитас! — О святая простота!»
Пружинка решил узнать, что на самом деле сказал Гус. Он стал искать очевидцев и их допрашивать. По словам одних очевидцев, полено в костер подбросила немолодая женщина, сын которой провалился на экзаменах в университет. По утверждению других очевидцев, полено подбросил молодой офицер, которому Гус отказал в руке дочери.
Третьи подтвердили, что полено подбросила некая богомольная старушка. Но они отрицали, что Гус, увидев это, воскликнул: «О святая простота!»