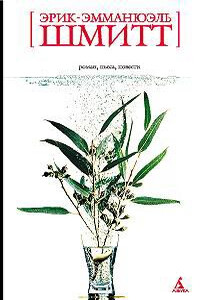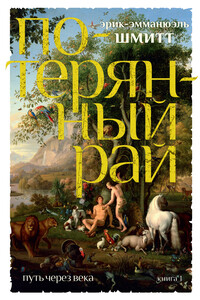Когда на рассвете огонь прекратился, он все еще слышал жалобное поскуливание. Вокруг него бегали санитары с носилками, вынося раненых и убитых.
Он исхитрился встать, взял винтовку, высунулся из окопа и, высмотрев Фоксля, выстрелил.
Вой наконец стих. Фоксль был мертв. Ненависть переполнила Гитлера, вытеснив горе. Он принялся поносить врага:
– Мерзавцы, сволочи! Вам никогда не выиграть войну, слышите, никогда! Германия выпьет вашу кровь, поставит вас на колени, вы станете нашими рабами, Париж будет немецким! Я ненавижу вас! Ненавижу! Я отомщу, и месть моя будет страшна! Ненавижу вас! Сволочи!
Потом он стал палить без разбора по французским окопам, надеясь достать человека, убившего Фоксля, – ни на секунду ему не пришло в голову, что тот может быть уже мертв.
Санитарам пришлось навалиться на него вчетвером, чтобы скрутить, и врач вколол ему успокоительное.
* * *
Позолоченные томными лучами солнца, Адольф Г., Бернштейн и Нойманн кайфовали у штабного барака. Пахло гудроном, послеобеденным отдыхом и потными ногами.
– Мы скоро проиграем войну.
Нойманн только что прочел все газеты, извлеченные из мусорных корзин офицеров.
– Мы? – воскликнул Бернштейн. – Лично я не вхожу больше ни в какие «мы», кроме «мы трое». Для меня вернуться с войны живым – значит выиграть ее. Предупреждаю вас: если уцелею, не буду больше австрийцем, да и никакой другой стране тоже не буду принадлежать. Апатрид и пацифист – вот кем я вернусь.
– Надо только продержаться еще несколько недель, – встревоженно добавил Адольф.
С тех пор как он вернулся на фронт и нашел своих друзей живыми и невредимыми, он ежеминутно боялся, что с ними что-нибудь случится. Их группа, закаленная в пережитых опасностях, неизменно молчавшая о чувствах, ее объединявших, была единственной частицей человечности в этом мире, потерявшем разум и сердце.
– Это война уже не между людьми, – продолжал Адольф. – Это война металла, газа и стали, война химиков и литейщиков, война промышленников, в которой мы, жалкие куски мяса, не сражаемся, а проверяем, хорошо ли убивает их продукция.
– Ты прав, – сказал Бернштейн. – Это война заводов, а не людей. Кто произведет больше железа, тот и победит. Мы – ничто. Когда я увидел первые танки – эти тонны стали, которые всюду пройдут и все сокрушат, – я понял, что мы бесполезны. К чему мужество и ловкость перед машиной, которая все равно сильнее и уничтожит тебя?
– Что вы несете? – воскликнул Нойманн. – Послушать вас, вы готовы воевать, только если сможете стрелять в упор, глаза в глаза. Так, что ли?
– Да.
– А вот я очень рад, что не вижу, в кого стреляю, палю вдаль, бросаю гранаты в указанном направлении. Будь передо мной люди, я бы, наверно, не смог.
– Не важно как, – сказал Бернштейн, – воевать я больше не хочу. Не хочу больше принадлежать ни к какой нации.
– Надо же тебе будет где-то жить, – заметил Адольф.
– Где-то – да, но в стране, не в нации.
– Какая разница?
– Страна становится нацией, когда начинает ненавидеть все другие страны. Ненависть – основа нации.
– Я не согласен, – возразил Нойманн. – Нация – это страна, которая прилагает усилия, чтобы обеспечить тебе жизнь в мире.
– Да ну? Были бы войны, если бы не было наций? Что мы здесь делаем? Из-за того что серб убил австрийца, немец и австриец воюют с французом, англичанином, итальянцем, американцем, русским. Ты можешь объяснить это иначе, чем логикой ненависти? Национализм – фатальный невроз, мой добрый Нойманн, и, выражаясь языком доктора Фрейда, он становится необратимым психозом, когда переходит в патриотизм. Если ты признаешь принцип нации, то признаешь и принцип перманентного состояния войны.
Они прислушались к далекому рокоту фронта. Сама природа словно была настороже, ожидая, как обычно, неистовства стали ночью.
– После войны я поселюсь в Париже, – заявил Бернштейн.
– В Париже? Почему в Париже?
– Потому что там вот уже тридцать лет создается современная живопись.
– На Монмартре?
– Нет. Это устарело. На Монпарнасе. Я сниму большую мастерскую и поселюсь там.
– Скажите пожалуйста, ты, похоже, хорошо все это знаешь.
– У меня свои источники.