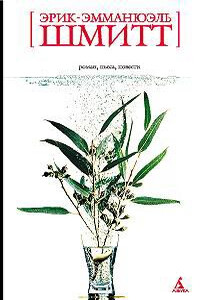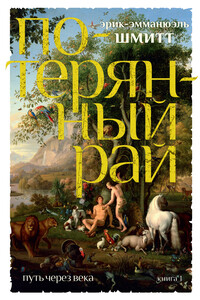«Дорогой Бернштейн и дорогой Нойманн
или
Дорогой Нойманн и дорогой Бернштейн,
я не знаю, с кого из вас начать, в то время как мне приходит конец.
Меня попросили написать матери: это означает, что у меня температура выше сорока и жить мне осталось недолго. Не повезло, не так ли? Умереть в двадцать шесть лет. И не иметь даже родных, кому я мог бы доверить мои последние мысли. Но это невезение стало таким банальным сегодня. Думаю, я даже не имею права жаловаться. В конце концов, я умираю в чистой белой постели и вижу над собой прекрасное лицо сестры Люси. Я не буду гнить в грязи между окопами; живые не увидят, как мой живот раздувается от газов, им не придется терпеть запах моего разложения, а через несколько недель после моей смерти, расчищая поле, заливать меня негашеной известью, чтобы я меньше вонял. Да я баловень: умираю в чистоте, в госпитале.
Друзья мои, я пишу это письмецо, чтобы сказать вам, что люблю вас, что ухожу, гордясь тем, что знал вас, был избран и оценен вами, и что наша дружба, наверно, лучшее, что было в моей жизни. Странная это вещь – дружба. Влюбленные говорят о любви, а вот настоящие друзья о дружбе никогда не говорят. Это чувство не называется по имени и не обсуждается. Оно сильно и безмолвно. Целомудренно. Мужественно. Это мужская романтика. Дружба, должно быть, куда глубже и крепче любви, потому что ее не распыляют по-глупому в словах, признаниях, стихах и письмах. Она приносит куда больше удовлетворения, чем секс, потому что не смешивается с удовольствиями и кожным зудом. Об этой великой безмолвной тайне я думаю, умирая, и отдаю ей должное.
Друзья мои, я видел вас небритыми, грязными, злыми, при мне вы чесались, пукали, рыгали, мучились бесконечными поносами, и все же я никогда не переставал вас любить. Я наверняка не потерпел бы всего этого от женщины, я покинул бы ее, оскорбил, отверг. А вас – нет. Скорее наоборот. Чем уязвимее вы были, тем сильнее любил. Это несправедливо, не так ли? Мужчина и женщина никогда не будут любить друг друга такой истинной любовью, как друзья, ибо их отношения отравлены соблазном. Они играют роли. Хуже того – каждый ищет роль покрасивее. Театр. Комедия. Ложь. Любовь ненадежна, ибо каждый думает, что должен притворяться, что не может быть любим таким, каков он есть. Видимость. Фальшивый фасад. Большая любовь – это удачная и постоянно обновляемая ложь. Дружба – непреложная истина. Дружба нага, а любовь гримируется.
Друзья мои, я люблю вас такими, какие вы есть. Нойманн, слишком красивый, слишком черноволосый, слишком умный, слишком способный, слишком обуреваемый сомнениями, я люблю тебя. Бернштейн, я люблю тебя, когда ты дуешься, когда ты пишешь, когда ты злишься, когда занимаешься гадостями с другими мужчинами. Да, вас обоих я люблю всякими.
Не желайте мне пережить эту ночь. Ибо если я выживу, то скажу вам все это лично, глядя в глаза, и вам будет ужасно неловко. Если есть рай, жизнь после жизни, я буду ждать вас там; я хочу, чтобы вы пришли ко мне очень-очень старыми, очень-очень богатыми, обласканными жизнью, выставляющими свои картины во всех музеях мира; не спешите, я потерплю. Если же там нет ничего, кроме небытия, я буду думать о силе чувств, объединивших нас, и даже в небытии все равно буду вас ждать.
Ваш друг навсегда,
Адольф Г.»
Гитлер ненавидел этот вынужденный отпуск.
В Мюнхене его ожидал жестокий удар: люди отнюдь не горели энтузиазмом, обуревавшим его на фронте. Они были угрюмы, пали духом, верили дурным новостям, а в сообщениях о победах подозревали правительственную пропаганду. Жизнь стала трудной из-за лишений, и все желали скорейшего окончания войны.
– Война должна закончиться только победой Германии. Она уже близка.
Его слушали – и не верили. Смотрели как на тяжелобольного, с причудами которого приходится мириться; в конце концов, ему скоро обратно на бойню, так пусть себе верит в победу…
В пивных ему удалось разговорить нескольких скептиков; однако услышал он от них только нападки на пруссаков – по славной баварской традиции – да жалобы на засилье евреев в администрации и конторах. Гитлер, который восхищался своим адъютантом Гутманном и не раз видел, как мужественно погибали на фронте евреи – равно как и пруссаки, – не терпел поспешных обобщений и всякий раз сворачивал разговор.