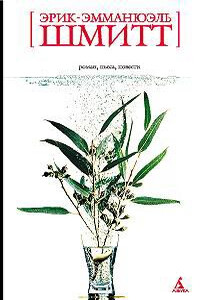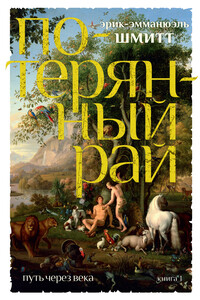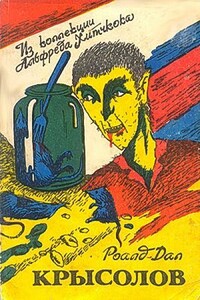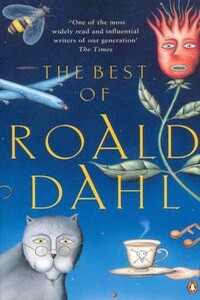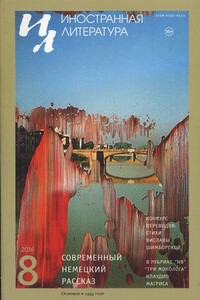– Быстрей, скоро рассветет! Уходим!
Бернштейн выбирается из ямы. Адольфу еще надо освободиться от своего груза. Когда колосс скатывается с него, он не сразу решается посмотреть ему в лицо, потом, заставив себя, узнает его: этот убитый – один из шестерых, что были в их отряде. Желтые глаза полуоткрыты и кажутся кусочками янтаря. На лбу красная точка. Кровь запеклась на усах. Оставив его в луже, он следует за Бернштейном.
У Адольфа дурацкое чувство, будто он возвращается домой, в безопасность, хотя траншея полна истерзанных тел. Некоторые стрелки живы, другие мертвы; они все в одной позе, стоят у стены лицом к врагу; только полная, жесткая неподвижность позволяет отличить мертвых от живых.
Занимается серый рассвет. Взмывают жаворонки, беззаботные, несносные, трепет их крылышек отныне будет напоминать Адольфу ночные снаряды.
Он смотрит на поле, отделяющее их от врага. Ямы. Железо. Осколки. Трупы. А посередине раненые, которые на разных языках стонут и зовут на помощь.
Бернштейн подходит к нему и крепко мнет ему плечо. Адольф улыбается. Всю свою благодарность он вкладывает в эту улыбку, потому что слов не находит. Бернштейн понимает и хлопает его по спине. У обоих на глазах слезы.
Бернштейн отводит глаза, чтобы не поддаться волнению, и, глядя туда, откуда доносятся стоны, говорит:
– Их оставят подыхать.
– Положа руку на сердце, Бернштейн, ты не думаешь, что лучше уйти с этой войны мертвым, чем живым?
Бернштейн зажег сигарету. В Вене он не курил.
– Проблема человека в том, что он ко всему привыкает.
– Ты думаешь?
– Это даже называют умом.
Он затянулся и поморщился. Табак был ему явно неприятен. Он продолжил свою мысль:
– Мы с тобой провели умную ночь в умном окружении, пользуясь последними достижениями ума в области техники и индустрии. Какая оргия ума!
Один из раненых испустил душераздирающий крик, больше похожий на детский, чем на мужской. Бернштейн щелчком отшвырнул сигарету.
– А, вот и ты, мой малыш.
Большой полосатый кот с оторванным ухом шел, выгибаясь и мурлыча, по внешней балке траншеи. Он весь извивался, млея от похвал Бернштейна.
Кот спрыгнул на землю и стал тереться о его сапоги. Адольф заметил, что у него осталась только половина хвоста. Бернштейн присел и погладил плоскую треугольную головку. Кот, казалось, вот-вот лопнет от наслаждения.
– Этот котяра перебегает из лагеря в лагерь. И здесь, и там у него друзья. Я знаю, что я не единственный светоч его жизни, и, хочешь верь, хочешь нет, неплохо это переношу.
Говоря это, Бернштейн улыбался Адольфу.
Впервые Адольф почувствовал, что перед ним прежний Бернштейн, которого он знал в Вене. Он наклонился и тоже погладил увечного кота, который тотчас признал его.
– Этому котяре все равно, кто его гладит – француз или немец, – вздохнул Бернштейн. – Он ничего не понял в войне.
– Значит, понял все.
И двое друзей понимающе, как прежде, улыбнулись друг другу над млеющим котом.
* * *
Гитлер впервые испытал благодать от ненависти. Теперь, когда враг был назван, он дышал полной грудью. Славяне? Звери, жаждущие крови. Англичане? Холодные, безжалостные змеи. Французы? Жадные и наглые империалисты. Это были единственные нюансы его ненависти. Что хорошо? Германия, и только Германия. Что плохо? Все остальное. Он нашел наконец концепцию мира. Больше не тратил времени на размышления. Товарищ расхваливает французское вино? Он отвечает, что ничто не сравнится с виноградниками Рейна. Другой настаивает, что французский сыр восхитителен? Он называет его предателем. Ему говорят о мужестве врага? Он возражает – не следует путать мужество с варварством. Ответы приходили легко; он, всегда тяжелый и неповоротливый в беседе, теперь фонтанировал фразами, мнениями, лозунгами. Щедро. Неистощимо. Он понял, что, если задан любой вопрос, главное – быть пристрастным. Такой ценой давалось счастье. И спокойствие. Гитлер избавился от сомнений, нюансов, от всех требований, которые его старые учителя глупо ассоциировали с критическим умом, – теперь они представлялись ему лишь симптомами вырождения. Эти интеллектуалы с высушенными мозгами бедны ощущениями и пусты сердцем. Больные. Старики. Умирающие. Слабые. Да, Ницше был прав. Слабые, пытающиеся втянуть сильных и здоровых в свою слабость и выдающие свой дебильный образ мыслей за зерно истины. Истина? Кому она нужна, истина? Зачем гоняться за истиной, которая будет на руку врагу? Незачем.