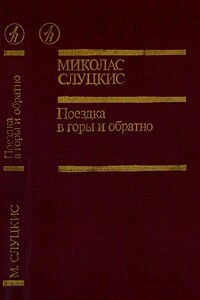— Скажи, — его не смутила ирония, — и сегодня ты тоже меня сопровождала?
— Ах, Йонас, Йонялис… Где уж мне! Это семнадцатилетние верят в могущество любовных чар.
— Да, о любви нам с тобой говорить вроде бы уже и негоже.
— Если бы ты всегда смотрел на меня такими глазами, как тогда, когда прикатил свататься! — она зажмурилась, чтобы не видеть пропасти между юностью и сегодняшним днем, страшной не морщинами и сединой, а словами — заменителями чувств: говорим о грусти, значит, грустим, о любви — любим.
— Поедем-ка скорее домой! Тут опасно засиживаться. Ты помолодеешь, я окончательно состарюсь, — не вполне искренне усмехнулся он над собой, тоскуя по тому, чего уже не воскресить. Словно живые краски блекли на его палитре, пока постепенно не исчезли совсем. Не жалел, что не удалось стать художником, но краски эти — не способность ли человека чувствовать?
— Домой? А ты знаешь, где наш дом? Знаешь?
Они стояли по пояс в тумане. Елена вжалась в плотный мрак какого-то куста. Приобняв за плечи, Статкус силой оторвал ее от мокрых колючих веток, чтобы не прорвалось рыдание, копившееся в груди жены, пока приходил он в себя в тишине и еще раньше, когда бодрой улыбкой пыталась Елена скрыть все растущую, высасывающую их жизнь пустоту.
— Ты ведь отважная, Елена. — В голосе Статкуса мольба — не зови, не тащи туда, куда он еще не может, не имеет сил идти.
— Да… да! — Ее губы пытались вернуть сбежавшую бодрую улыбку.
— Эй, старик, куда ты подевался? Молчишь, ничего не рассказываешь! — как с амвона, возглашала из кухоньки Петронеле.
Лауринас ползал на коленях по воротам гумна, снятым с вереи. Молоток долбил по трещавшим доскам, так что у него было оправдание: дескать, ослепла, не видишь, занят? Но поднялся и поплелся к кухоньке.
— Может, милку свою повстречал? Что удила-то закусил?
— Базар полон баб, а у нее какая-то милка на уме.
— Каждый базарный день она там. — Старуха обернулась к Елене, обтирающей мясорубку. — Вязаными шапочками да вышитыми носовыми платочками торгует. Вдова.
— В ту очередь я не становился. Издали трясет.
— Тебя бы самого тряхнуть следовало, ой, как следовало! Яблоки даром раздаешь.
— Мои яблоки, не твои.
— Фу! — Петронеле дунула, словно назойливую муху отгоняла. — Старый, а дурной. По двадцать копеек… За такие яблоки!
— Зато торговля шла, как из пушки. Бабоньки обступили, из рук рвут, — хихикнул Балюлис.
— Еще бы, когда такой добренький! — Петронеле, как бы передразнивая его, ущипнула Елену за локоть. — Берите за спасибо, прошу вас! Мне что, мне и так годится!
— Одной, правда, задаром дал… Морте!
— Какой Морте? — покосилась хозяйка.
— Морте Гельжинене. Сколько их еще-то есть? Одна. Одной и дал.
— Что плетешь, старый? Морта не нищая. Из твоих грязных рук и брать бы не стала… И не взглянула бы на твои яблоки!
— А вот и взяла! И ни тебе спасибо, ни прощай. Задом, задом — и растаяла…
— Разум твой растаял! — И Петронеле снова обернулась к Елене, растерявшейся от их спора. — Если бы я ее не знала… Но… С Мортой мы еще в приходской учились. На хорах вместе пели. А он что плетет?
— Тебе наплетешь. Все знаешь, хоть носа со двора не кажешь. Ну, я пошел. — Но продолжал топтаться на месте, сам недовольный своим рассказом.
— Иди, иди. Морту… Морточку мою, садовый цветочек… оговорил. Фу!
Старик уже совсем было собрался удалиться.
— Погоди, Лауринас! — Не крик, шепот. — Морта… еще красивая?
— Старое пугало твоя Морта! Нос — очки цеплять. Разве старая вещь бывает красивой? — уставился на нее Лауринас.
— Сам ты пугало! Морта была красавицей. Землю косою мела. Замуж долго не выходила, все ту косу жалела. При детишках, при стряпне с такой-то косой?… В руку была у нее коса, поверь, дочка! — не могла успокоиться Петронеле, поднимая свою могучую ручищу, словно Морта оставалась прежней и ее коса цвета льна была все той же самой. — Наболтал бессовестный старик. Из мести! Это же Морта про все его фокусы мне рассказывала… Как он с той городской стервой!.. Нос, видишь ли, чтоб очки цеплять! — передразнила она Лауринаса писклявым голосом. — Сам ты нос, лопата навозная!
— Верю, как не верить, — угодливо поддакивала Елена, но Петронеле ее не слушала, ворчала, не желая соглашаться с жизнью, сглодавшей Мортину красоту, с насмешками злопамятного Лауринаса.