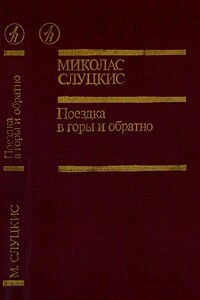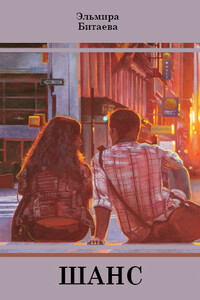— Где тут успеешь? Стирай, обед вари…
— Да, на мужиков не настираешься. Возьми моего старика… Думаешь, всегда дятлом стучал? Как бешеный носился! — последние слова она произнесла таким громким шепотом, что встрепенулся сидевший в саду Статкус. Снова начнет метать громы и молнии? Нет, другой, совсем другой вздох сопроводил шепот, будто сладко саднящую рану погладила. — Гол как сокол пришел, а нос задирал. Как еще задирал! Особливо перед богатыми хозяевами. Из кожи вон лез, только чтобы сравняться с ними. Батюшка-то мой наставлял его: прикупи земли, сбей, хоть по кусочкам, волок, а он… Все небось своим жеребцом хвалился? То-то и оно! Разве позволит себе справный хозяин держать на десяти гектарах жеребца? У отца двадцать было, и то не держал. А этот, вишь, считал, что своими призами любому дворянчику нос утрет. Распутным городским дамочкам понравиться хотел — вот что. Смотрите, мол, каков я на коне! С одной чуть не сбежал. Лихой был. Ох, крепко отрыгнулись нам эти его призы, галифе, френчи да ружье!
Вот и прозвучало роковое слово — ружье. Блеклый ночной цветок распустился при свете дня и начнет теперь расти, тянуться вверх. Да, да! Были и френчи и галифе, было ружье, не могло их не быть, ежели хотел он гарцевать на равных с сыновьями богатеев и помещиков. Иливступай в Союз стрелков[5], или продавай своего жеребца, так ему и сказали, а то больше на скачки не допустим. Не по душе были Лауринасу Балюлису ни стрелки, ни их ружья. На что они ему, примаку, от зари до зари поливающему потом песчаный холм? Выкапывающему в лесах деревья и волокущему их в усадьбу на собственном горбу? Галифе, френч, стоячий воротник, ремень через плечо еще туда-сюда, удобно, когда трешься возле лошади. Но ружье? Пахарь, сын пахаря, пусть и арендатора, испокон хозяйничавшего в запущенных поместьицах, он инстинктивно чурался железа, которое не пашет и не боронит. Ни отец Лауринаса, ни братья оружия сроду не нюхали. И он знать не хотел. Отслужив свое в уланах, как дурной болезни, не хотел. Другое дело — расчесывать да заплетать гриву жеребцу, готовить его к бегам…
— Нет, дочка! Чего ж тогда «лесные» явились? Думаешь, на яблоки его поглазеть? — ножами пыряли вопросы Петронеле. — Когда сажал, многие приползали позубоскалить. Дурак, дескать, как же — вырастет у него на таком песке сад! А когда засыпались мы теми яблоками, замолчали, сами стали деревья сажать. Нет, «лесные» не сад посмотреть приходили. И не для того, чтобы пса укокошить! Застрелили, потому что кидался, зубы оскалив… Я этого зверя сама боялась, хоть своими же руками и кормила. За формой и винтовкой приходили, вот за чем! Осерчали, что не нашли, Лауринас ружье уже давно выбросил, а от формы стрелка одни галифе остались, да и то из домотканого сукна. С расстройства и собаку уложили. И мы тогда на волосок от смерти ходили. Вот как оно было, милая! Вспоминать страшно…
— Страшно, страшно, — доносится до Статкуса, и не из кухоньки — из далеких далей, из канувших в небытие осеней, когда он, бездомный студентик, прыгал по немощеной, изборожденной ухабами улочке, насквозь пронизываемый ветром и подгоняемый мечтами, которые были быстрее этого ветра; дверь покосившейся избушки медленно-медленно отворялась перед ним, будто удивлялась, что никто не замахивается ружейным прикладом, не разносит в щепы нетесаные доски.
— Ты? Глянь-ка, Йонялиса принесло! — не верит своим молодым, бодрым глазам мать, узнавая его развевающиеся на ветру космы, его раздувающийся плащ.
— К девке притащился — не к матери!
Отчим. Басовито гудит в широкой груди его ворчание — только бы не показать, что и сам рад. Если бы не этот его густой бас, мать и не взглянула бы на коротышку. Даже в то отчаянное лето, когда бродила с одного двора на другой, выгнанная, считая дни до родов.
— Хлеба вот привез, сахара. — Йонас раскладывает подарки на залитом самогонкой, пропахшем хлебом и ежедневными заботами столе.
— Сам-то ешь ли, сынок? Такой бледный. — Тайком скользит по его подбородку худая, отдающая тмином материнская ладонь.
— Много работаю, мама. Некогда жирок наращивать.