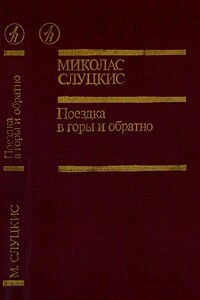— Послушай, Неринга. Может, достать тебе путевку на болгарское взморье? Познакомилась бы… с группой…
— Оставь девочку в покое. — Елена продолжает улыбаться, губы — твердые дощечки, странно, что они не стучат, и разочарование Статкуса в дочери превращается в ярость против жены.
— Не дом, а тюрьма. Лица траурные, окна занавешены. Воздух впустите!
Не ожидая, пока выполнят его приказание, сам распахивает окно. Звенят, искрятся стекла, всегда чистые у Елены. Неринга не прерывает работы — ха, работа! — ничто не остановит шныряющего крючка. Будет вязать и распускать. Будет торчать в кресле и возиться с нитками до умопомрачения вплоть до судного дня, если его когда-нибудь уготовят нам атомные маньяки. Неужели это она — не боящиеся осколков стекла ножки, стрелок из лука, наездница, отчаянная любительница кино?
Воспоминание о кино неприятно кольнуло где-то под сердцем. Статкус отводит взгляд от ослепительного дня за окном. Как жестоко посмеялась тогда над ним Неринга! Такое впечатление, что урок повторяется, только хуже и скучнее. Он вскакивает, бежит к платяному шкафу.
— Мама, какая муха его укусила?
— Не говори так об отце! — Елена соизволила взять его под защиту.
— Бедняжка. Опоздал на коллективную рыбалку.
Эта ирония догоняет Статкуса уже на лестнице, слова и мучительное, ни с чем не сравнимое чувство, что Неринга, его Нерюкас, его плоть и кровь, не просто раздражена. Нет, она и не думает мстить, скорее всего забыла про кино и про все, что последовало… А раздражена потому, что кто-то подменил ее, его девочку, и новый облик, облик старой девы, уже необратим, даже если ты разорвешь собственную грудь и отдашь, чтобы вернуть ей молодость, свое сердце… Хоть и воскресенье, гудит, шумит город, полный праздных людей, не видно ни одного, кого хотелось бы остановить и пожаловаться ему, что твоя дочь, свет твоих очей… Нет, об этом ты не сказал бы и лучшему другу! Не надо, несправедливо и жестоко так думать, а уж говорить… Ведь ей, твоему Нерюкасу — всего двадцать семь, это же очень немного по сравнению с твоей собственной долгой, полной заблуждений и разочарований жизнью, которую и теперь, сбежав из неуютного дома, еще не считаешь законченной… А может, закончена, и ты ищешь человека, который честно, без лжи посмотрел бы тебе в глаза?
Вот он — тот знакомый, хорошо знакомый седой юноша — идет враскачку, будто по палубе корабля, твердо ставя ноги, хотя, как старый парус, изрядно потрепан бурями и бедами времени. Задержи его! Мгновение — и исчезнет, пока ты роешься, раскапывая в заросших мозговых извилинах истлевшее звучание его имени. Вот уже поравнялся, вот бросил суровый, враждебный взгляд… Не лицо друга — камень… холодный туман враждебности…
Время сорвалось с поводка, словно никем не удерживаемый фокстерьер. Некогда стало раздумывать, копаться в себе. Примчавшаяся «скорая» сломала ветку яблони. Врачиха — молодая, розовощекая — заговорила строго: или больная отправляется в больницу, пли медицина снимает с себя всякую ответственность. Чудные люди эти колхозники, скотина для них дороже человека. Елена не сумела бы объяснить, что застит Балюлисам белый свет не корысть. Станут доить Чернуху все кому не лень, а она туго отдает молоко — не выдоят до конца, воспалится вымя, будет мучиться корова, мучиться будет старик, а то еще убьет его, брыкаясь. Вот что не идет у Петронеле из головы, когда она из последних сил цепляется за углы родной избы:
— Как же я корову оставлю? Два ведра дает.
Никогда не лежавшей в больнице — рожала дома, — ей казалось пыткой показывать свое тело посторонним.
— Старый человек некрасив, а все смотреть будут.
Больница — так она себе представляла ее — стеклянная клетка, всякий прохожий увидит, будут пальцами тыкать…
Всей душой желала, если уж пробил последний час, умереть дома, в старой деревянной родительской кровати, глядя в окно, свет которого будил ее по утрам. Больше всего любила она утро.
— Не сбежите, дочка, когда меня увезут? — Она сдавила руку Елены и, не дожидаясь ответа, наказала: — Яйца только самые свежие ешьте. Все равно всех не одолеете.