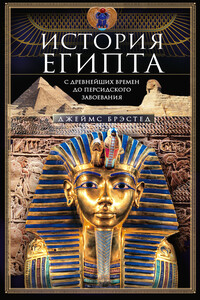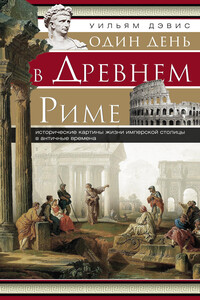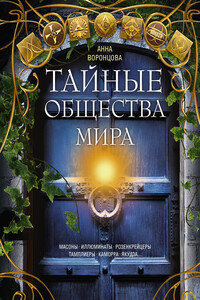Не менее важным, чем доблесть, качеством была величественность. Высокое положение, несомненно, обязывало героев обладать ею. Они вели свою родословную, пока еще не очень длинную, от богов, и между ними и простыми людьми разверзлась широкая пропасть. Было желательно, чтобы непосредственные предки царя уже правили государством, а сам он обладал сокровищами и землями, которыми мог распоряжаться по своему усмотрению. В первую очередь он должен был демонстрировать свой героический характер, негодуя, быстро воспламеняясь и буквально излучая опасность. В Трое, где собралось вместе большое количество правителей, соревнование за престиж было особенно ожесточенным (достаточно вспомнить гнев Ахилла) и стало двигателем всего сюжета Илиады. Сам Агамемнон обладал большим авторитетом, ибо поэт называет его «пространно-властительным» и «повелителем мужей», правда, мы не очень хорошо понимаем, что подразумевается под этими эпитетами, – поэт не объясняет их, говоря, что Агамемнон правил большинством людей, хотя статус царя, как правило, не зависел от числа его подданных. Но эта власть не помогла ему, когда Ахилл ушел в свою палатку.
Многое из этого напрямую связано с тем, как поэт и его слушатели представляли себе героя, человека, поражающего воображение не только силой и богатством, но и своим кодексом чести. Но подобно тому, как честь является преувеличенным вариантом поведения, считавшегося нормой для верхушки древнегреческого общества более позднего времени, возможно, и другие качества героев как-то связаны с реальностью. Мы должны найти в истории место для этих царей, которые не могли стоять на вершине иерархии микенского общества или мириться с ограничениями, наложенными на древнегреческих правителей, живших в более позднее время. Неупорядоченная структура, необходимость четкого руководства, возможно даже доходящего до неистового индивидуализма героев Троянской войны, – все это прекрасно подходит для народа, переселяющегося из одного места в другое. Вполне вероятно, что войском, осаждавшим Трою, в эпической традиции после некоторой идеализации стали ватаги переселенцев, распространившихся по побережью Малой Азии после гибели микенской цивилизации.
Часть событий, описанных в Одиссее, если не считать ее довольно большой фрагмент, где описываются приключения главного героя, так или иначе связанные с волшебством, происходит в Греции. Ее события разворачиваются на фоне описания мирного существования царского домашнего хозяйства, благополучие которого поставили под угрозу обреченные женихи Пенелопы. Картина, правда, получилась далеко не полной, ибо Гомера интересует только происходящее во дворце, а менее значимые фигуры в его рассказе фигурируют только в связи с правителями. Язык поэмы настолько соответствует этому высокому уровню, что, когда повествование начинает разворачиваться в хижине свинопаса Евмея, на нее переносится часть свойственного дворцам великолепия, а сам Евмей оказывается «повелителем мужей».
На Итаке и на материке пасутся многочисленные стада Одиссея. Его дом, полный одежд, масла, вина и всего необходимого для домашнего хозяйства, поражает великолепием и размерами. Хранятся там и многочисленные сокровища. Архитектура, описание которой вплетено в повествование, напоминает характерную для дворцов Тиринфа. И здесь есть много отголосков микенской эпохи, но справедливо и то, что многие события, описанные в Одиссее, могли происходить и в гораздо более скромном доме, что во многом богатство Одиссея состоит из довольно простых вещей, количество которых многократно увеличено, и что сам правитель, как и его жена, в отличие от царей микенской эпохи, не пользуется услугами большого количества слуг, а делает очень многое самостоятельно. Когда герой не охотился, не пировал, демонстрируя свои атлетизм и доблесть, и не слушал песни, ему приходилось тратить время на личные инспекции своих владений. Так, например, Телемах оправдывал редкие посещения Евмея тем, что очень занят из-за поведения женихов. Женщин поэт хвалит за их умение ткать, причем Пенелопа в этом не отставала от своих служанок, и они, подобно гречанкам более позднего времени, самостоятельно следили за содержимым кладовых.