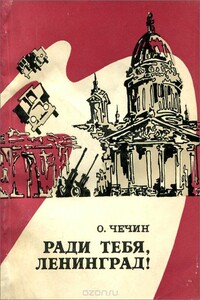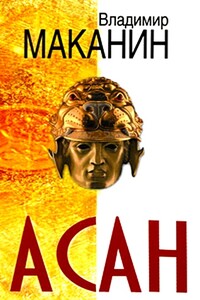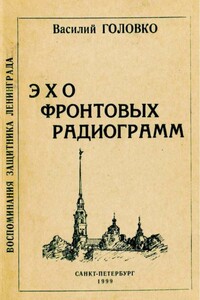Туманов врезался в боевые порядки мюридов, как косарь в поле. Палаш засверкал молнией, разя влево и вправо, скрежеща и лязгая, рубя и сокрушая. Алексей продвигался следом, и ему встречались уж порубленные горцы: один — ужасно — чуть не до седла. Вокруг все звенело, бряцало, мельтешило, сопровождалось отчаянными криками, жуткими стонами, лошадиным храпом, пистолетными выстрелами. В какую-то минуту сделалось совсем уж жутко и захотелось даже отстраниться, но было некуда — везде мелькали шашки… иные алые от крови.
У Прохора потеха шла жестоко. Встречая неприятеля, он резал шашкою его коня (издали, по морде), тем добиваясь сразу многих целей. Во-первых, разрубал узду, и горец был уже не в силах править лошадью, во-вторых, чинил скотине травму, от которой та вставала на дыбы (нередко стряхивая и хозяина), и, в-третьих, что немаловажно, — сам находился для противника недосягаем. Правда, сей прием случался довольно редко, и унтеру большей частью приходилось драться обыкновенно.
У Трифона потеха ладилась надежно. В одной руке держал он шашку, показывая, что готов рубиться честно, за поясом же прятал пистолеты (больше трех, и в седельной сумке — столько ж). Если с первого удара противник не ломался, то пуля следом правила осечку. А было, что и ранее.
— Алешка, глянь! — хрипло крикнул Туманов, опуская палаш на горца, прикрывшегося шашкой.
Алексей немедля вскинул взор (едва успел, картина уж вершилась). Палаш разбил клинок надвое и глухо врезался в плечо мюрида. А далее уж стало тошнотворно. Лезвие стремглав прошло наискосок по телу и вместе с головой отрезало и полгрудины. Кровавый бюст заклокотал, запенился, захлюпал и медленно свалился набок. Однако не упал — повис на красной коже. Что было совершенно жутко. Алексея тотчас вырвало на собственное колено…
Тем временем пехота уже гуляла по аулу: разбитому, заваленному трупами, пустому. Все жители ушли еще до боя, остались редкие старухи, да деды, которые не опасались русских по причине личной дряхлости. Солдаты шарили в подворьях, хватая кур, ловя индеек, таща за круглые рога баранов (тем нанося врагу значительный урон).
Бонжур гарцевал по кривым улочкам, поглядывая на осыпавшиеся крыши саклей, изломанные заборы, тела убитых горцев. И весь его напыщенный вид, казалось, говорил: «Есть в этом и моя заслуга, уж я здесь, братцы, расстарался». Ни дать, ни взять — герой. Но тут ему опять не подфартило. Из леса выходил отряд Туманова. Драгуны, истерзанные и усталые, залитые кровью, будто искупавшиеся в пунцовой речке, безмолвно втягивались в аул, везя на седлах раненных и убитых товарищей. И против этой картины, жуткой и доблестной одновременно, Бонжур выглядел пустым, как петелька в лацкане мундира.
— Илья Петрович, Илья Петрович! — выбежал из крайнего двора Евграф Аристархович, — ну, слава Богу, вы живы. Слава Богу.
Туманов спрыгнул с лошади.
— Полдюжины убитых и восьмеро раненых. Рубились, как дровосеки — тяжко.
— Да, да, — с грустью сказал полковник. — Второй и третий эскадроны тоже дрались… на правом фланге… тоже притрепли.
— Мюриды нас и справа обходили? — Удивился Илья Петрович.
— Да, да — и справа тоже.
— Ловко.
— Спалить аул к чертям! — неожиданно вскрикнул Евграф Аристархович, увидев обезглавленное тело свисавшего с коня драгуна. — В золу, в угли, на ветер! Чтоб камня на камне, чтоб ни одной живой души, чтоб всякий знал!.. — он захлебнулся от возмущенья.
Туманов возразил.
— Неплохо бы, но не теперь.
— Отчего же?
— А не за что серчать — рубились честно. Мы — к ним, они — на нас. Вот если бы злодейство какое, иль обман, тогда уж, да — под пламень. А так — война.
— Ужасное, право, занятье.
Неожиданно во дворе дома, из которого вышел Евграф Аристархович, послышался плач ребенка. Илья Петрович тотчас встрепенулся.
— Разве здесь остались дети?
— Мы нашли мальчишку в погребе, — кивнул полковник. — Там, верно, укрывались они вместе с дедом. Я думаю, последний вылез посмотреть, не стих ли бой. А тут — картечь…
— Скверно, — бросил Туманов, направляясь к воротам.
В небольшом дворике, посреди которого зияла глубокая воронка, лежал мертвый татарин с бело-рыжей бородой, тут же, на корточках, сидел щуплый малец лет 5–6 и, плача, дергал рукав его полинялого архалука. Стоявший подле них переводчик в синем бешмете, пытался что-то объяснить ребенку.