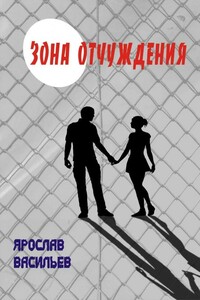Начиная с конца XI века распределение потока идущих с востока на запад и с запада на восток товаров (а в год через Великий шёлковый путь перемещалось по разным оценкам от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов тонн разных грузов) начнёт стремительно меняться. В 1055 году пала династия Абассидов, единый халифат стал распадаться на отдельные государства. Началось вторжение сельджуков, которые халифат хоть и завоевали, но удержать не сумели. Единое мусульманское государство стремительно распадалось на отдельные эмираты. Война шла все против всех… В новом варианте событий поток купцов быстро облюбует не корабельные пути через Индийский океан, а караванные тропы через Степь и славян: дольше, зато безопаснее. И в XII–XIII веках в Киев хлынет огромное количество предприимчивых и деятельных людей, купцов, разного рода авантюристов. И пусть это не сумеет повернуть процесс старения вспять — но позволит задержать распад на пару столетий.
Финансового кризиса, связанного с упадком торговли по Великому шёлковому пути, не будет. Русь дождётся рождения русской нации, которая и начнёт новый культурный виток развития восточных славян. Китай в итоге окажется меньше знакомого нам, так как с одной стороны от него откромсают кусок энергичные степные ханы, а с другой — Корейский полуостров (княжество Корё) так и не станет вассалом и по факту провинцией Сыновей Неба. И даже когда Корё развалится от внутренних причин на несколько государств, тюркюты завоевать Корейский полуостров не дадут… А сами не смогут, им помешают китайцы и чжурчжени. Зато сам Китай так и не узнает вторжения чжурчженей, ненадолго основавших династию Цзинь — национальная династия Мин придёт к власти намного раньше. Сохранится к XIII веку и островное торговое госудаство Шривиджайя, которая будет жестоко конкурировать с Паганским царством (сегодняшняя Бирма)… И с Японией. Активная морская торговля и достаточные финансовые вливаняя приведут к тому, что Острова солнца не окажутся отрезаны от остального мира. Жаждущие славы и богатства смогут не резать друг друга в схватке за обладание страной, легко отыскать их на море в сражениях с флотилиями Шривиджайя, в набегах на континент… И как Европа трепетала при виде кораблей викингов, так и Азия будет трепетать при виде галер самураев.
Впрочем, нашего мальчика Жиля столь сложные проблемы не волнуют. Как не задумывается он о том, что древний город Лютеция сохранил своё название, так и не став Парижем. Его куда больше волнуют мечты добиться высокого положения в обществе, жить не в обычной крестьянской избе-полуземлянке с земляным полом и стенами из жердей или дубовых плах — а в богатой избе-срубе, или даже переехать в город. Не обращает он внимания и на то, что ходит босиком, похожие на русские лапти плетёные из лыка башмаки получает только на зиму, а сапоги видел лишь на дружинниках барона. Да и одежду носит совершенно неудобную с точки зрения нашего современника: нижнюю рубаху камизу (напоминающую тунику до середины бедра) с длинными рукавами и надевавшуюся поверх неё котту, похожую на тунику без рукавов или с короткими рукавами. А ещё Жиль мечтает о разрешённой богачам и дворянам приталенной сверху котте до середины икры — а не как нынешняя котта обязательно выше колена и напоминает просторный мешок. Да ещё чтобы нашлись деньги не на грубые домотканые, а сшитые портным удобные и тёплые штаны. Или что вместо них он сможет носить модные и дорогие кожаные чулки, среди крестьян считавшиеся роскошью и излишеством.
Не волнует Жиля и календарь, а уж про привычку суматошного двадцать первого века считать не только часы, но минуты и даже секунды в его времена никто не задумывается. День у всех начинается с рассветом и заканчивается с закатом, примерный час определяют по солнцу. Знание точного часа нужно только монахам, чтобы отбивать в колокола и строго по времени проводить службы. Остальным достаточно было «после обеда» или «к закату». Также вольно относятся и к дням, выделяя лишь воскресенье, по которым все обязаны ходить в церковь. А уж если нужно было назвать определённую дату, то её привязывали к какому-нибудь религиозному празднику: Пасхе, Рождеству, Троице и так далее. С годами поступали ещё проще: «в такой-то год правления нашего короля (нашего графа)», «наш граф, правящий уже столько лет» и так далее.