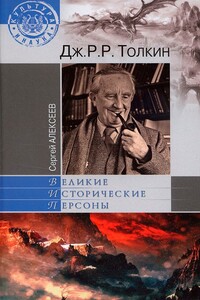Но отчего, в таком случае, Пушкин сравнительно мало известен европейскому читателю, гораздо меньше, чем Толстой, Достоевский, Тургенев?
Только потому, что успешно перевести Пушкина на чужой язык возможно, лишь сделавшись вторым Пушкиным. Не говорю уже, что адекватный перевод стихов вообще невозможен. Но применительно к Пушкину невозможность усугубляется. Форма слишком много значит в его произведениях: она — эта форма — неотделимая от содержания и доведенная до высокой степени совершенства, являет собою не оболочку, а подлинное существо Пушкинской поэзии. Пушкин искренно изумился бы, если бы ему стали внушать, что, взяв перо в руки, надо думать о том, что писать, а не о том, как писать. Оба эти вопроса всегда предстояли ему слитые воедино. Значит, здесь мы снова видим резкий разрыв с привычными, прочно установленными обыкновениями русской литературы.
Итак, по-видимому, мы приближаемся к выводу, который должен возмутить и оттолкнуть нас: Пушкин не был выразителем русской культуры. Он как бы воспроизводит заново, в иных условиях, историю своего предка, Абрама Петровича Ганнибала, африканца по крови, француза по образованию и вкусам. Арап среди гипербореев, Пушкин не имел продолжателей, не оказал никакого воздействия на дальнейшие судьбы русской литературы, которая немедленно после его смерти пошла своим собственным, отнюдь не Пушкинским путем. Позднейшим поколениям он не завещал ничего, кроме ряда эстетических эмоций. Уж не догадывался ли он сам об этой особенности своей литературной судьбы, когда — устами Сальери говорил о Моцарте:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет!
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника вам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! Чем скорей, тем лучше!
Такой вывод принять трудно. С некоторой тревогой и даже с гневом, мы начинаем перебирать вновь, звено за звеном, всю цепь наших посылок и заключений. Полно, не было ли в них какой-нибудь ошибки?
Да, отвечу я, ошибка была. Мы неправильно отождествили русскую культуру вообще с умственной культурой трех последних четвертей XIX столетия. Такое отождествление слишком узко и грешит отсутствием исторической перспективы.
XIX веку предшествовал XVIII, от него существенно отличный. К XVIII столетию принадлежал и его поэтическим выразителем оказался Пушкин.
В русской истории XVIII век есть век удачи и успеха, век энергических усилий, увенчанных счастливыми достижениями, век смелости, новизны и внешнего блеска, век, по преимуществу, аристократический и дворянский, жестокий век не менее жестокий, чем эпоха Великой Европейской войны, так что XIX столетие представляется какой-то интермедией гуманности между двумя актами кровавой драмы.
То была эпоха чувственная, легкомысленная, дерзкая, скептическая, очень умная и даже мудрая по своему, но без всякой психологической глубины, без способности к рефлексии и анализу, почти без морального чувства, с религией, всецело приспособленной к государственно-практическим целям. Эта эпоха оглушала себя громом побед и громом литавр; упивалась наслаждениями в полном сознании их непрочности и мгновенности; тратила силы, не считая; не боялась смерти, хотя любила жизнь до безумия.
Рядом со своим предшественником XIX век кажется каким-то неудачником: в его анналах только поражения, несбывшиеся надежды, горькие сожаления. Это век совестливый, мнительный, болезненно щепетильный, неспособный ни переносить страдания, ни причинять их. Его суждения о людях и вещах сплошь да рядом производят впечатление наивности и даже недалекости. Но вместе с тем он гораздо более сложен психологически: внуки знают и чувствуют многое такое, о чем деды не имели понятия. В отличие от XVIII русский XIX век умеет ставить, если и не разрешать, философские проблемы, в общественных отношениях он ищет справедливости, в религии он мистик, в политике простодушный идеалист. Незаметно, понемногу, он теряет и расточает большую часть того, что было приобретено холодным маккиавелизмом и тонким политическим искусством предыдущей эпохи. На рубеже XIX столетия Россия была первой державою Европейского Востока и, короткое время спустя, сделалась гегемоном всей континентальной Европы, вершительницей ее судеб. В конце века Россия — держава сравнительно второстепенная, понемногу втягивающаяся в орбиту чужой политики. Еще несколько лет, — и для нее наступает пора внешних унижений, частичных разделов, политического и территориального умаления. Победа над Наполеоном была окончательной реализацией культурного перелома, совершенного Петром В., Японская война и весь период, за нею последовавший — реализацией движения, начатого русским образованным классом и русской литературой после Пушкина и вопреки Пушкину.