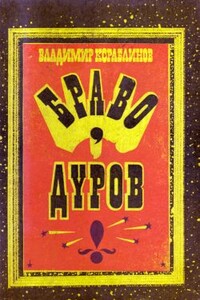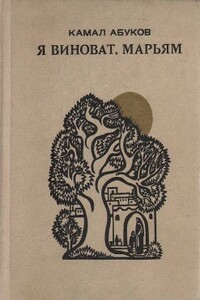На земле – без земли… А ведь это, ей-богу, тема! Нет, нет, не для танцующих собачек, извините, ваше превосходительство, опять, кажется, придется огорчить… Что ж делать! Ремесло.
Молнией озаренье вспыхнуло: земля в горшочке.
Злобная улыбка сверкнула из-под усов: один махонький горшочек. Махоточка карачунская.
Только и всего, ваше превосходительство…
– Разрешите?
Что в этот вечер творилось в цирке!
Трещали скамейками. От дыхания множества людей мутнели яркие лампы. Рев восторга распирал брезентовый купол балагана; он, казалось, вот-вот сорвется и мутновато-красным шаром улетит в грозовые облака.
И присудят ли самофаловскому мойщику Янову за победу над немцем Фоссом обещанные пятьдесят целковых – так и останется неизвестным.
Но бог с ними, с борцами.
Хотя мойщик действительно положил знаменитого немца и тут же, на манеже, под свист и хохот публики получил обещанные Никитиным деньги. Хотя скамейки, как уже было сказано, трещали и рев стоял именно во время этого поединка, – все было ничто по сравнению с великолепным выходом Дурова.
Его встречали, как всегда, шумно, восторженно. Вместе с униформистами на манеже выстроилась вся труппа, и это по цирковым традициям был наивысший почет.
Он появился стремительно, в многоцветном сверканье парчовой одежды, в радостном всплеске оркестра, в криках и громе аплодисментов, рухнувших горным обвалом и, казалось, потрясших всю землю… На вскинутых в знак приветствия его руках сверкали, длинными сияющими огнями переливались причудливо драгоценные камни перстней.
– Люди! – воскликнул, покрывая все шумы. – Люди…
Люди всех чинов и званий,
Без различья состояний,
Перед вами я стою
И челом вам низко бью!
Жрец веселого я смеха,
Откликаюсь я, как эхо,
На людские все дела,
И моя сатира зла!
О, этот хищный оскал, сверкающий из-под франтоватых усов! И бешеный темп одна другую сменяющих шуток, реприз, акробатических трюков… Не переводя дыханья от одного взрыва хохота – к другому, к третьему!
Выражаюсь я по-русски
И не раз сидел в кутузке,
Но не брошу никогда
Резать правду, господа!
Едва окончив монолог, он сразу же как бы засучивает рукава, уходит в работу. Шесть картонных листов с огромными буквами:
– Вот, господа, не угодно ли… Наши министры каждый день делают государю доклад… и получают за это…
Откидывается первый лист.
– Окла-а-ад! – орет публика.
– Абсолютно правильно! – летит следующий лист. – Такой наш режим для министерских бюрократов…
– Кла-а-ад! – гогочет цирк. – Кла-а-ад!
Каждый сейчас рисует в своем воображении министра: неприступен, что твой монумент, фрак со звездой, важность непомерная… До их высокопревосходительств – как до бога, не достать… С каким-нибудь там прошеньишком не сунься, куда прешь, – одно слово: ми-ни-стр! И вдруг – при твоем вроде бы участии, при оскорбительном твоем гоготе – бац! – по лысине, по лысине господину министру! По лысине!
– Кла-а-ад!
– Так их, сволочей!
– Браво! Браво!
– Но, господа, – Дуров подымает руку, и снова вспыхивают синие, желтые, фиолетовые длинные огни перстней. – Но, господа, правительство наше очень заботится о том, чтобы в государстве был…
Третий лист отброшен. Пожалуйста, совсем не трудно прочесть коротенькое слово «лад». Ан молчит ведь публика-то… Какой там к черту лад! Правительство заботится… Держи карман! От такой заботы…
– Лад! – в одиночестве, в молчании разводит руками Дуров. – Но на самом-то деле, друзья, все мы отлично знаем, что на Руси у нас сущий…
– Ад! – весело вопят сотни глоток. – Ад! Ад! Ад!
Тут уж не только министру по лысине, тут уж – хватай выше…
И назвать-то – так оторопь берет.
– Ад! – беснуется публика. Хохот, рев, аплодисменты.
Откуда ни возьмись, на манеже – дог, наш старый знакомый, с каким лет пять назад впервые в смешной колясочке появился Анатолий Леонидович на Мало-Садовой.
Страшен, мордаст, грозно, басовито рычит на потешного раскоряку-пеликана, зажавшего под крылом папку с надписью «Дело». Кланяется неуклюжая птица, приседает, всем существом своим показывая страх перед начальством.
– Эх ты, подхалим, трус несчастный! – смеется Дуров. – С таким-то носищем дрейфишь перед его высокоблагородием!