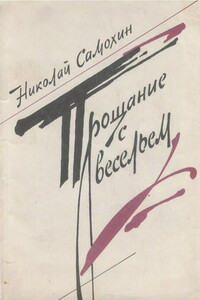Они ни разу не почувствовали себя неловко наедине друг с другом. Вероятно, потому, что никогда не навязывали себя один другому. Это была любовь без обязательств, без обещаний.
Зуев, вернувшийся с войны, уже знал женщин. Но сейчас он понял, что ничего еще по-настоящему не познал в любви… Он больше слышал и читал, каковы бывают отношения людей в интимной жизни… Горы литературы, написанные о ней, так и не выяснили и по сей день, каковы же они должны быть. Где-то он вычитал, что женщина почти всегда — деспот и собственник в своем чувстве, которое по закону естества почти всегда лишь порог к дому, к семье, к гнезду с его заботами. Здесь же ничего подобного не было… «А может быть, просто искусно притворяется, играет?..» Инна ничем не сковывала его волю… и ничего не скрывала… Он платил ей тем же… Они ни разу не объяснились всерьез, ни разу не пытались увидеть свои отношения в будущем…
— Зачем? — сказала она однажды на его попытку заглянуть вперед. — Ведь ничего же серьезного нет.
Его немного коробило такое отношение… «Что это — легкомыслие, разврат?..»
— Как же это случилось у тебя?.. — вырвалось у него.
— В первый раз? — догадалась она. — Вы, мужчины, гораздо любопытнее нас…
— Ну а все-таки, — настоял он.
— …А все-таки — война. Надо бы тебе быть подогадливее. Во время бомбежек разбиваются вдребезги не только стекла…
И она рассказала ему все.
Первый был командировочный моряк с бакенбардами. Он, видимо, учил соленым словам и галантности, что одинаково было противно.
И опять это все было прямо, честно и откровенно.
С детства Зуев больше всего на свете ненавидел ложь. Самую грубую правду он ценил выше самой красивой лжи и больше всего ненавидел ханжей. Его тошнило от каждой ханжеской рожи, этого воплощения разума новых мещан. Они уже зазубрили нудно и безразлично формы новой этики и морали, так же как мещане прошлого бубнили молитвы. Так ему казалось. А тут он встретил человека, высшим судьей над которым было его собственное сердце.
Он спросил ее как-то:
— А все же ты понимаешь, кто мы с тобой? Муж и жена или… — Он запнулся.
— Нет, мы просто любовники, — безжалостно толкнула она его кулачком в грудь.
Ему стало досадно… Правда, само слово не вызвало у него чувства протеста. «Ведь надо же уметь без запинки произносить такие слова! А впрочем, она просто говорит правду. Любовники и есть…» Но его сердце, не подчиняясь чопорности разума, сопротивлялось.
— А почему не «любимые»?
Она долго смотрела ему в глаза и тихо, тихо пожала руку:
— Нет, любимые — это прочнее… Это уже другая ступень… Не надо, Петяшка, так легко бросаться дорогими словами… Их не так уж много на свете… Именно любовники… пока…
И он почувствовал на миг ее превосходство. «Точно определяет, лапушка…» Сколько он ни думал, а точнее назвать их отношения ему так и не удалось. И его начала раздражать точность этой неопределенности.
Но дело было не только в словах — и в любви Инна была непосредственнее. И она не скрывала, не хотела скрывать этого. Целовалась она смело, с каким-то особым содроганием всей своей гибкой фигурки. Но и тут была верна себе: всегда резко обрывала поцелуй, отталкиваясь обеими ручонками, как ушедший на самое дно пловец отталкивается от песчаного дна, чтобы стремительно всплыть на поверхность. Отдышавшись, говорила, смущаясь: «Мой найденыш…», обязательно сопровождая это слово каким-нибудь жестом. То пальчиком нажимала кончик его носа, как кнопку звонка, то дергала его небольно за прядь волос на виске, а чаще всего трепала за ухо. Но всегда эти жесты выражали ее удивление перед тем странным, необъяснимым чувством, несколько секунд назад обволакивавшим их обоих, как теплая морская волна. А как-то, в минуту самого большого откровения, когда страсть уже способна перейти в еще большее — дружбу и стать полновесной человеческой любовью, либо в отвращение — став жгучей ненавистью, он проговорился ей.
— Ты похожа на Зойку… — И сразу понял свою ошибку.
Молнией сверкнула ревность в ее глазах… и сразу, подавленная волей, исчезла. «Однако, умеет себя держать в руках, — подумал он. — Не задала ни одного вопроса, не сказала ни слова… эта женщина — кремень…»