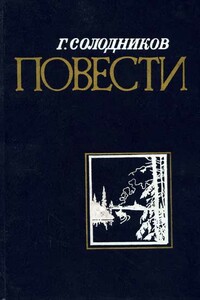— А вы как думаете? — улыбаясь, ответил Зуев.
— Ну и как же мы к этим кролячьим дворянам подойдем сейчас с философской точки зрения? Они ведь, знаешь, свистнуть могут на всю твою философию! Они такие…
— Философию надо применять без трезвону…
— Э-ге-ге, стой, стой, — сказал Швыдченко. — Не слишком ли мы того, в высшие материи лезем с телячьими хвостами… Философия, брат, дело тонкое. А мы ее к бычкам да к кролям присобачиваем. Ты хоть пропагандистам моим не говори. А то еще пришьют нам какую-нито хреновину.
— Уклон, что ли? — улыбнулся Зуев.
— Нет, уклон теперь уже не в моде. А вот извращение или теоретическую ошибку — как пить дать.
— Это могут, конечно, — согласился Зуев.
— В общем, додумались просто, так сказать, в порядке практического воловьего хвоста. Так, что ли? — заговорщицки подмигнул Швыдченко.
— Эмпиризмом попахивает эта точка зрения, товарищ секретарь, — засмеялся Зуев.
— Ф-фу ты черт… — обескураженно махнул, заливаясь детским смехом, Федот Данилович, и если бы Зуев знал его раньше, он услышал бы в этом смехе неисправимого оптимиста Федотку, выучившего наизусть басню про голого цыганенка.
И они расшалились как дети, эти два разных человека. Им было весело, так как оба уже поняли друг в друге что-то главное. А главное было в подходе к жизни — живой, невыдуманной… Здесь они были единомышленники. И своим безудержным смехом они как бы давали друг другу слово, что никто никогда не собьет их на зыбкую тропу догматики и словесного трезвона, а будут они всегда трезво смотреть на жизнь, как этого требует их партийный долг и здравый человеческий смысл.
Но все же начатый с серьезной ноты разговор, как горный ручеек, журча веселым смехом, вышел на простор, пробил себе путь и снова заблестел звонким говором вечно живой мысли. Отсмеявшись, Швыдченко с удовольствием смотрел на Зуева, с уважением и завистью: «Подкованные ребята, ничего не скажешь. Этот диалектикой так и чешет… А мы ведь послабже были по этой части, да и грамматикой хромаем до сих пор…» — думал он о четком и логическом мышлении, огулом зачисляя все, что касалось человеческих слов и раздумий, в разряд грамматики.
— А то ведь иногда как бывает, — задумчиво говорил Зуев. — Ты умнее, верно, но не лезь же со своим умом наперед: ведь дураков, которые чином повыше, ставишь в неловкое положение; ты смелее — а зачем же трусов, перестраховщиков подводишь; ты честнее — а жуликам и прохвостам из-за тебя житья нет.
— Ну, так насчет честных-то не говорят… Кому охота себя прохвостом выставлять, — не то возразил, не то согласился Швыдченко.
— Только что не говорят..
— А думают?.. Есть, есть такой грех… Да, ты прав, военком. Против рожна праты, против хвыль плысти… Это я еще мальчонкой вычитал. У нашего, у Ивана Франка… Это не так-то легко, брат… Верно, верно… И то говоришь верно, что и саму философию надо применять без трезвону… А у нас часто ее как попы долдонят, а что к чему и какому грешнику какое покаяние, да какому святому какая молитва, — и не разберешь.
— А пропагандисты как пономари, — поддакнул Зуев.
— Ну, а мы с тобою ее к телячьим хвостам приспособили. — И Швыдченко снова засмеялся.
— Это и есть ее настоящая должность, — вдруг серьезно сказал Зуев. И они отошли, глядя в степь, и военком продолжал, обращаясь к секретарю: — Был такой английский философ Бэкон Веруламский…
— Слыхал. Это тот, что законов насочинял такую уйму, что и доселе отменить их никак не могут… Крепкие, видать, законы выдумывал… Не выкрутишься…
— …Так он, этот Бэкон, о своей братии так сказал: «Чистые, сверхученые философы видят мир, как совы…»
Швыдченко посерьезнел и задумался. По густым черным бровям было видно, как напряженно работает его цепкая мужицкая мысль, как всей душой врезается он в смысл философии мыслителя с именем, вызвавшим у них обоих ассоциации с консервированным мясом «второй фронт».
— …А ваш предрика Сазонов видит мир, как тот суслик, — показал военком на маленький мягкий столбик, торчавший на пустыре.
— Ну, положим, не только Сазонов, и еще кое-кто из руководящих товарищей в районе, — серьезно и задумчиво сказал Федот Данилович.