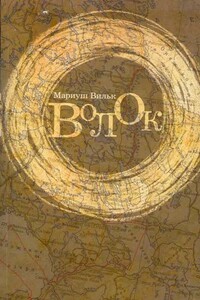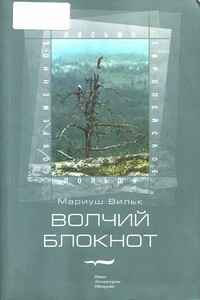Клюев напрягся, посуровел и бросил Заболоцкому — уже без всякого оканья:
— Кого вы мне сюда привели, Даниил Иванович и Александр Иванович? Разве я не у себя дома? Разве не могу делать то, что мне нравится? Захочу — псалмы стану петь, захочу — канкан станцую.
И правда — станцевал.
* * *
Кем же на самом деле был Николай Клюев? Пройдохой, разыгрывающим мужика, или истинным народным певцом? Салонным хлыщом или религиозным визионером? Ведуном или мошенником?
Из воспоминаний современников образ складывается противоречивый. С одной стороны — старообрядчество и юфтевые сапоги, с другой — знание философии Канта («Критику чистого разума» он цитировал в оригинале), любовь к Верлену и нетрадиционная ориентация. Одни называли его «носителем истинной русской души», «единственным действительно народным поэтом», «помостом между старой Русью и сегодняшней Россией», другие обвиняли в позерстве и поэтическом мошенничестве (якобы его «Песни из Заонежья» — плагиат фольклора), конъюнктуре и имитации крестьянского сознания, хотя землю он в жизни не обрабатывал. Особенно ехидный (и при этом неправдоподобный) портрет олонецкого поэта нарисовал Георгий Иванов. В его эссе клюевская «клетушка-комнатушка» оказывается роскошным номером в петербургском «Отель де Франс», где Николай Алексеевич принимал гостей на турецкой тахте в шикарном сюртуке и при галстуке. Не менее шаржированный, но в другую сторону, портрет мы находим в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль». Там демонический Микула специально зачесывает на бок жирные, как у Гоголя, волосы, «чтобы скрыть слишком мудрый лоб», хитро поглядывает изподлобья и разыгрывает дурачка, сует деньги в голенище, якобы не подозревая о существовании портмоне. Однако, что касается Форш, карикатурный образ Клюева отчасти объясняется гротескным стилем романа в целом.
Другое дело — Владислав Ходасевич — автор термина «клюевщина», описывающего мужицкую программу ожидания нового Разина, который первым в России пустит красного петуха и устроит великий пожар (кстати, энтузиазм, с которым Клюев принял участие в большевистском перевороте, подтвердил интуицию петербургского критика, хотя автор «Пожарища» от революционного жара быстро остыл и сделался страстным защитником остатков патриархальной Руси). Политический имидж не позволил Владиславу Фелициановичу разглядеть в Клюеве великого поэта, хотя критиком он был искушенным.
Ясное дело, Николай Клюев раздражал. Было в нем нечто от юродивого, не от мира сего. Это же есть и в раскольнице Люсе из Загубья, которая может шепнуть, что на прошлой неделе беседовала с отцом Корнилием Палеостровским (знаменитый монах, живший несколько веков назад[173]), и с улыбочкой посмотреть — как я отреагирую. То же я почувствовал у самоедского тадибея на Ямале, который на вопрос о шамане вручил мне испорченный радиоприемник.
И раскольница Люся, и самоедский тадибей, и поэт Клюев — из тех людей, которые видят больше, чем простой обыватель, и знают об этом. Поэтому они иногда смеются, иногда иронизируют, иногда валяют дурака. Своего рода защитная реакция.
Если собрать все портреты Николая Клюева, оставленные теми, кто его знал, мы увидим человека непростого, самим своим существованием ломающего условности и стереотипы. Неудивительно, что для многих эта фигура оставалась загадкой и большинство современников ее профанировали. Не понимали, упрощали.
Тем ценнее одно из немногочисленных иностранных свидетельств — воспоминания итальянского русиста Этторе Ло Гатто[174], познакомившегося с олонецким поэтом в Ленинграде в 1929 году и помогшего Клюеву спасти его opus magnum, прекрасную поэму «Погорельщина» (тайком вывез на Запад). Ло Гатто еще раньше слышал от Ходасевича и других столичных мэтров о Николае Алексеевиче — якобы тот переодевается мужиком и изображает старообрядца — и решительно утверждает: «…Едва познакомившись с ним лично, я отчетливо понял, что Клюев не позер. О прошлом я сказать ничего не могу, но во время наших встреч он был далек от какого бы то ни было притворства. Наоборот, его отличала простота человека, который дорого заплатил за свои убеждения и веру и готов платить дальше». Важное наблюдение Ло Гатто: автор «Погорельщины» в гораздо большей степени сохранил свои крестьянские корни, чем маньерист Сергей Есенин. Прежде всего — подлинную мужицкую веру.