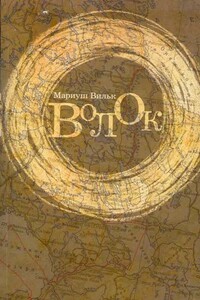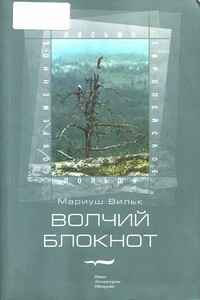— Резать — не резать, — почесал в затылке Лев Матвеевич, — до Медгоры все равно не доедем, бензина не хватит.
— У нас в больнице переночует.
— А не замерзнет он там?
До меня стало доходить, что дела плохи. Сестра Тамара твердила, что спасти меня может только скальпель, а поскольку хирурга в Великой Губе нет, надо ехать в Медвежьегорск. А как ехать, если у Матвеевича лимит на бензин исчерпан, а новый еще не выделили. Поэтому они решили пока положить меня в больницу в Великой Губе. Но там холодно, как в псарне, потому что ночью вырубилось электричество и полопались трубы центрального отопления. Пока они в новогоднюю ночь спохватились, один больной умер, еще двое — при смерти. Остальных разобрали по домам.
— Так, может, пускай наш больной лучше дома ждет транспорта в Медгору? — предложила Наташа.
— Исключено, — возразил Матвеевич, — я и сегодня сюда еле доехал, а если ночью пойдет снег — обещали, — завтра до вас будет уже не добраться.
Последнее слово было за мной. Я поблагодарил и отказался. Уж лучше умирать у себя дома на теплой печке, чем в обледеневшей больнице. Тот, кому доводилось лежать в провинциальной больнице постсоветской эпохи, скорее всего, меня поймет. Тамара Валентиновна пыталась возражать, но, увидев, что я принял решение, наложила повязку с ихтиоловой мазью и оставила какой-то антибиотик. Четыре дня я его пил, чтобы остановить воспаление. Ихтиол вытянул гной. Температура упала. Я бросил лекарства и и стал голодать. Через неделю рука вернулась в норму. Снова пронесло.
А что касается дороги, Матвеевич был прав. Вскоре после их отъезда началась метель.
3 февраля
А в «Жепе» — новое цунами… На сей раз — список Вильдштайна[123]. Четверть миллиона «жертв».
Помню Бронека в радостный период конца 1970-х. Кажется, осенью 1979 года мы сидели у меня на улице Пшестшенной во Вроцлаве, между двумя стычками с госбезопасностью. Без Лешека Малешки[124], зато с Анджеем и Войтеком из краковского СКС[125] и несколькими ребятами из Вроцлава. Интересно, кто-нибудь из них вошел в список Бронека?
А впрочем — плевать!.. Но я поражаюсь этой общенациональной панике. Этой «истерии», как это раньше называлось, которую уже несколько дней провоцирует «Жепа». Все вдруг стали проверять: окружающих, себя (словно раньше не знали), своих близких. «Многие теперь примутся восстанавливать честное имя и прикрывать фамилии, словно разграбленные могилы, а репутация нескольких покойников рассыплется в прах». Но есть ли из-за чего настолько сходить с ума?
В списке Бронека я бы наверняка нашел много знакомых фамилий. Ну и что? Прошлое минуло безвозвратно, и сегодня меня все это совершенно не колышет. Разве что занятно понаблюдать за этой бумажной казуистикой — кто насколько скурвился. Разделение доносителей на тех, кто доносил за деньги, и тех, кто делал это из страха, не меняет сути вещей — и те и другие позволили себя поиметь. Пусть даже орально.
Кое-кто пытается все вывернуть наизнанку и твердит, что виновата система и ее щупальца, это их, мол, нужно преследовать, пятнать и наказывать, а стукачи — всего лишь несчастные жертвы. Для меня гэбэшники были противниками (впрочем, они никогда этого не скрывали), а парень, который жал мне руку, как Лешек, и доносил на меня, как Кетман[126], вот это, по правде говоря, — сука. Вот и все.
Тревожит меня только одно. Стоит ли вообще писать о таких сенсациях в дневнике? Не напоминает ли это пришпиливание к бумажке бабочек-однодневок?
8 февраля
День ощутимо удлиняется. Всего лишь восемь тридцать, а за окном уже маячит его бледное лицо… Сизое, немного опухшее облако над Виговом, ниже темная полоса леса и безмолвное белое пятно — на целый экран.
Будда на письменном столе тоже вынырнул из тьмы. Свет из окна высветил во мраке его правое плечо, бедро и макушку — мягким, серебристо-пепельным абрисом. Этого маленького бронзового Будду привез мне несколько лет назад из Японии дядя Виня[127], в свое время прекрасный польский социолог, автор, в частности, «Планового общества». В Страну цветущей сакуры его пригласили в связи с выходом книги на японском языке. Сегодня он мне приснился.