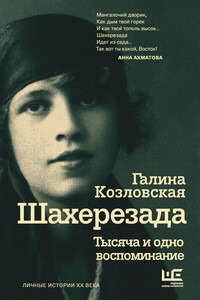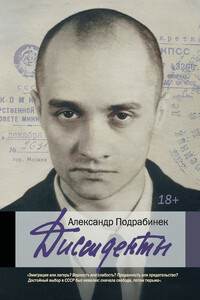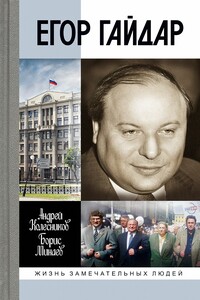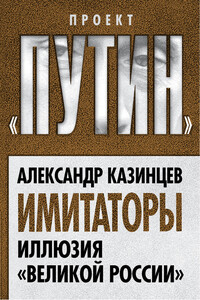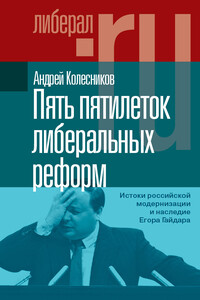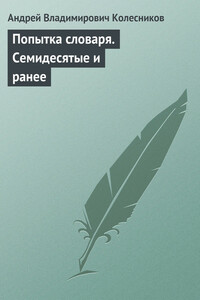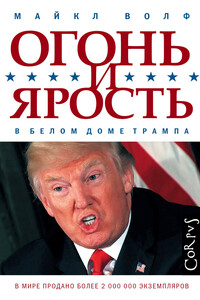Я, конечно, доказывал каменному лицу в окошке, что всего лишь хочу заплатить смиренному кладбищу полагающиеся ему деньги за хранение бабушкиного праха, что совершенно не собираюсь, как в известном советском анекдоте, «ложиться завтра» в обход существующих правил и именно в эту нишу, а не в какую-нибудь другую. Но лицо не могло поверить в то, что в конце XIX века люди могли родиться с одним именем-отчеством, а потом жить с советским паспортом с другим. Ну, например, родился человек как Давид Зальманович, а в совпаспорте значился как Давид Соломонович, а Либа Гершеновна вдруг превратилась в Любовь Герасимовну и под таким именем оказалась в нише. Ну просто Троцкий-Бронштейн какой-то! Подозрительно…
Лекция по российской и советской истории, обращенная в окошечко, закончилась в вышестоящей организации, где я себя чувствовал тварью дрожащей на госэкзамене то ли по спиритизму, то ли по научному коммунизму. И был с усталым вздохом отпущен с миром, промучился недели две, не меньше, в томительном ожидании решения, каковое получил по почте — положительное. И уже тогда смог со спокойным сердцем оплатить вечный покой собственной бабушки.
Любимым героем дальневосточных пионеров был Василий Константинович Блюхер, и первым страшным ударом — эхом сталинских репрессий — стало указание нашего учителя истории вырезать или зачеркнуть портрет маршала в учебнике по истории 4 класса. Интересно, что даже мы, младшие, чувствовали неправоту этого дела. Я знаю, что никто из моих одноклассников не тронул портрета Блюхера. Пришло время, и правда о легендарном герое восторжествовала.
Ну вот — образец массового диссидентства: детского, но при этом в духе старых большевиков. Значит, уже тогда школьники понимали: не всё, что навязывают им в школе, — правда. И надо разделять собственно правду и правду идеологическую. Прямо как сейчас, когда в школах детей уверяют, что Крым — наш. По разнарядке сверху. Школьники слушают и не возражают. Но по своему сыну знаю, что дети разделяют правду и школьный официоз. И, оставаясь при своем мнении или по крайней мере скептической позиции, прекрасно понимают, что публично возражать учителю не стоит. Да и учитель того не стоит…
Перед войной мы по настоянию мамы вернулись в Москву. Врачи выдали справку, что по состоянию здоровья мне противопоказан климат Дальнего Востока: что-то с сердцем. Я-то не особенно чувствовал недомогание, но мама так рвалась в столицу, что отец уступил, хотя и не стремился туда. И действительно, надо было начинать работу на новом месте, как-то устраиваться с жильем, а в Москве это было практически невозможно. Приютили нас родственники — двоюродные братья и сестры папы — Шинкаревы, которые сами жили в бывшей конюшне, кое-как переделанной под жилье, у завода «Каучук».
Началась новая жизнь в большой семье, в которой было трое сыновей, все старше меня. Быт заводской семьи не был в новинку, но вот московская школа трудно давалась: ребята здесь были другие, как мне показалось, какие-то свирепые, драчливые, и что особенно неприятно — попрошайки, все время хоть что-нибудь пытались выпросить — резинку, карандаш, 20 копеек или даже кусок хлеба, взятый на завтрак. Это было так противно, что я придумал такой выход: брал с собой в школу черный хлеб, на который никто не покушался. Из круглого отличника в провинции я постепенно превратился в середнячка, да и то жил на старом багаже знаний — как выяснилось, преподавание на Дальнем Востоке было более квалифицированным и основательным. Через год семья вернулась в общежитие литейного завода, папа и мама восстановились на прежней работе, всё вроде наладилось. Но тут наступила новая эра, началась война.
Война, конечно, не была полной неожиданностью для нас, даже для детей. Когда мы жили на границе, это было тем более понятно, но и в Москве мы чувствовали приближение грозных событий: с успехом прошел фильм-предупреждение «Если завтра война», газеты и радио каждый день призывали к бдительности и готовности отбить агрессию, а потом вдруг объявили о «внезапном» нападении. Конечно, общее удивление возникло, когда наши войска стали терпеть поражение в Финской войне, но затем Красная армия вошла в Прибалтику, затем в Польшу и вроде бы всё стабилизировалось. Вера в то, что война будет победоносной, скорой и обязательно на чужой территории, сохранялась в народе. Вплоть до того, что 22 июня 1941 года толпы на улицах были отнюдь не мрачные, испуганные, а наоборот, довольно оживленные и даже веселые: мол, наконец-то мы им, фашистам, покажем!..