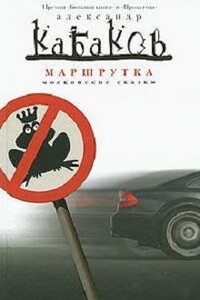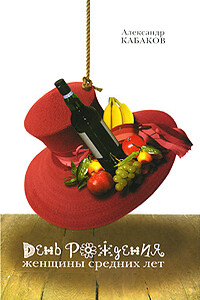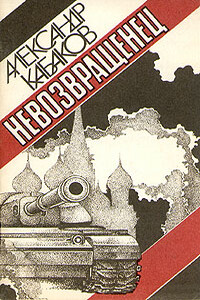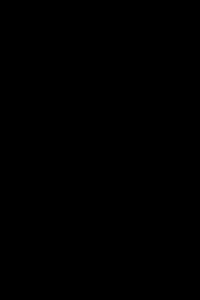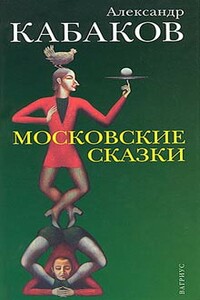И сон кончился. И я протрезвел. И началась ночь...
Так не играем, Грин, сказал Борух, это не игра, ты дергаешь.
А за такие слова, хлопчик, можно свободно получить ув хлебало, сказал Грин, ты меня за руку держал чи как, шо ты ховоришь, я дергаю?
Ладно, не дергаешь, сказал Борух, но играть больше не буду.
А кто это у тебя там вякает, Грин, спросил Юрка-Декан, кто это там у тебя вякает в спальне, а?
Да, сказал Витька, кто, вроде чувиха?
Да зассышка одна, сказал Грин, понял, покушала, попила, понял, и не дает, так я ее на усякий случай к койке пристехнул, пусть отдохнет, подумает, шо оно такое жизнь.
А ты сука, Грин, сказал Борух, сейчас я тебе так вломлю, что ты все поймешь, сука ты рваная.
Хнида, ховно, падла, сказал Куцый, я тебе сейчас по яйцам засажу, так ты от чувих на всю жизнь отстанешь.
Бросьте, ребята, схиливаем отсюда, заборайся он в рот с его чувствами, сказал Юрка-Декан, шо у нас, своего горя нету?
Нет, сказал Грин, вы не спешите, мальчики, вам не надо спешить, усе равно с вами ребята с Шепелевки и с базара разберутся за такую хрубость до мене, хлупые вы дураки, и ты, Борух, мудило ты бед...
И врезал Борух.
И врезал Грин – даром что толстый, а удар крепкий, не кисель, и правильный, злой, точный – прямо в дыхало.
И лег Борух.
И Куцый уделал Грина ровно в хлебало, будто блок пробил на первенстве «Буревестника».
И лег Грин.
А Юрка-Декан сгреб все башли – и к двери, кочумай, чуваки, хватит ему, насовали, пошли.
А Витька уже в спальню шагнул и увидел, какая же все-таки сука Грин. Фашист, падла! А может, это и к лучшему, что фашист. Потому что трусики в тот год у всех наших девочек были одинаковые, египетские появились, а лица, как и всегда, разные. И увидел Витька только желтое солнце-клеш, задранное на лицо и связанное над головой бельевой веревкой, а конец веревки – к спинке кровати, и арабские трусики. А больше ничего не успел увидеть – шагнул к кровати, отвязал бельевую веревку – и едва устоял, отскочил от удара в живот оранжевыми кудрями.
И вылетело неузнанным существо из проклятой хаты – вот и вся благодарность освободителям.
Да и правильно. Узнали бы – и не жить бедной Лидке в университете, потому что и благородные игроки – они тоже люди. И, скорей всего, ездила бы она с ними еще года три в Мисхор, и возвращались бы они с промысла своего под вечер, и шли бы в приморский кабак, и возвращались бы опять под большой балдой, или, уже на третьем году, в большом кайфе, и спали бы в одной незаконной пансионатской комнате, и совсем бы она с ними, по доброте и симпатии, заборалась, или, года через три, затрахалась бы. Не дай бог...
Но схиляла она.
Вот сука, мы за нее под Грина встали, а она ни здрасьте, ни спасибо, говорит Юрка-Декан.
Молчи, ховно, говорит Борух, Гринов дружок.
Тормозни и хиляй ты по прохладе, а мы так пошли, говорит Куцый.
И они уходят.
Давай, хнида, деньги, говорит Витька, вот твой четвертной, и чеши отсюда, и на тренировку не приходи.
И хер бы с вами, говорит Юрка-Декан.
И они уходят, спускаются с холма и идут по уже совсем темному бульвару.
И отшвыривает ногой обрывок бумаги Борух, а что это за бумага – то ли то самое объявление о приеме на подготовительные курсы, то ли просто газета, – кто же теперь знает.
Давно это было, двадцать пять лет назад.
Темно на юге ночью в октябре, и ветер свистит – хоть и не слишком холодный, но осенний, нудный ветер.
И светит во тьме одно окно в большом доме на центральной площади, светит прямо над памятником. Алло, Федор Тарасыч, это опять Гнищенко беспокоит... Сам позвонишь? Понял. Понял. Понял... Алло, дежурный? Ну что там, разобрались в «Юности»? Это Гнищенко говорит... Так. Понял. Понял. Понял.
А сержант Гнущенко тем временем уже и с дежурства сменился, и в отделение пришел. И ничего не понимает, что говорит ему дежурный капитан. Який такий общий выезд, яка така чепе? Шо ж я, товарыщ капитан, права на отдых не маю? Слушаюсь. Слушаюсь.
И садится Гнущенко в опермашину, и сидит в ней минут сорок. А де ж воны, остальные? Як это, нема кому ихать? Я з дэжурства – и иду, а бильш нема кому? Ув «Юность»? А шо там такое, шо то за «Юность»?