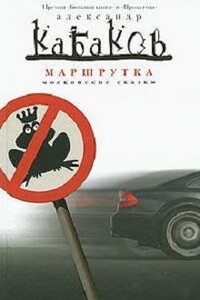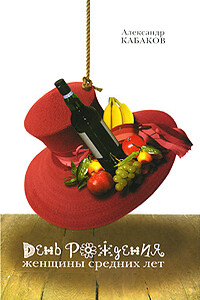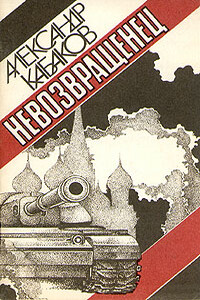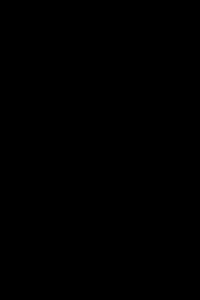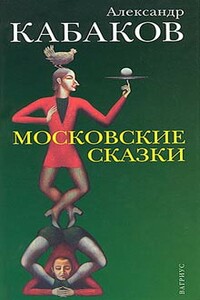Кому ж еще завидовать? Всякий труд отнят, всякое поле сожжено, все богатства в чужой руке. И первый слуга – все равно холоп.
Лишь высоко сияет власть, и сила – ее, и властитель велик, потому что один он и есть великий.
Власть – счастье людей.
А другого нет у них счастья, это же наступит, и отвратить его наступление нет сил.
Ибо власть – сила, а против силы только сила стоит, и сама делается – власть.
Все.
– Все, – повторил за чертом и человек. Нагнулся и пистолет поднял.
– Не стреляйте, товарищ Бойко, – сказал Семенов. – Сейчас не время сводить счеты. Станьте выше личного. Через семь минут, – он взглянул на резной шар, – киевский придет. Идите, товарищ Бойко, прикажите прицепить вагон. Идите.
И Владимир навсегда покинул Салон.
Над станцией уже стояла поздняя ночь. Где-то в железнодорожных домах, как водится в литературе, отчаянно, с подвывом лаяли собаки. Перронные фонари уже не горели, и только желтые квадраты света вокзальных окон лежали вдалеке на асфальте и, сползая с него, пересекали, кривясь, колею.
Нащупывая невидимую лестницу, спустился Володя на землю. И тут же возник из тьмы давешний подстрекатель в опереточном наряде. Глянул Володе в лицо, покрутил головой:
– Э-хе-хе... Молодой человек... Слабы оказались, слабы... Афронт-с...
И гауптвахтным голосом гаркнул:
– Сдать оружие!
Владимир молча вынул обойму и положил ее в протянутую руку в перчатке.
– Следуйте за мной! – снова гаркнул придурок.
И тут Владимир не выдержал:
– Да вали ты! – заорал и он. – Командир драный... Пошел в...
Он не договорил – сдержался. Неудобно, все же – при исполнении. Но гражданин и сам все понял.
– Ну-с, как будет угодно, – вздохнул он. – А наше дело – повиноваться закону...
Сию же минуту на деревянное крыльцо, как ни в чем не бывало, выскочила жирнозадая, вислобрюхая и совершенно раздетая дочка – в одних светящихся фирменным белым цветом сапогах.
– Юрка... – позвала она кокетливым голосом. – Юрочка, ну чего ты, как неродной? Иди сюда...
И безобразно раскорячилась, вцепившись в поручни.
– Честь имею, – буркнул названный Юрочкой, уже начиная понемногу линять. И, оставшись в одних сатиновых трусах и сетчатой майке, пару раз тяжко вздохнув, отшвырнул шляпу и трость, сложил над головой руки, сплюнул – и нырнул. Чавкнуло только – и вагонная дверь опустела.
А над станцией ни с того ни с сего во всю мощь заработала категорически запрещенная в ночное время громкая связь.
– Сержант Бойко! – надсаживался голос с небес, причем отнюдь не Вали Горелой, а незнакомый мужской. – Сержант Бойко! Немедленно зайдите в помещение дежурного по станции! Сержант Бойко! Немедленно зайдите...
Но обмануть Володю сегодня уже больше не удалось.
Не обращая внимания на громовой глас, он смотрел в сторону южной горловины. Там, вдалеке, еще на перегоне зажегся и придвигался лобовой локомотивный прожектор. Наконец шел киевский скорый, на удивление не опоздавший в ту ночь.
И Владимир побежал к маневровому.
Машинист дремал на месте.
– Заводи! – закричал ему снизу милиционер. – Заводи! Я стрелку сам сделаю – толкнешь служебный на первый путь!..
– Охромел, сержант?! – вываливаясь по пояс из кабины, в свою очередь крикнул и машинист. – Это ж в лоб скорому!!! Судить будут!..
– Толкнешь!!! – прохрипел Володя, поднимая к лицу железнослужащего пустой пистолет. – Толкнешь, зараза...
Не оглядываясь, помчался к стрелке.
И увидел, как она сама двинулась, поползла и прищелкнулась к рельсам, делая Салону последний маршрут. Хотя никакой такой техники, как Володя знал точно, до сей полночи на их станции не было. Впрочем, по плану-то реконструкции ее уж два года как ввели...
И услыхал Володя позади себя короткий железный удар, и проплыл мимо него, выкатываясь все быстрее на главный путь, проклятый служебный.
А летящий навстречу, на проход, тепловоз уже гудел, гудел, и мигал прожектор, и рвались тормозные рукава, горели, рассыпая вокруг бешеные искры, колодки, гремела сцепка, сыпался на рельсы песок, а с небес все рычала самая громкая в подлунном мире связь:
– Сержант Бойко! Сержант Бойко, зайди же ты, дурень, к дежурному по всей этой хлопаной станции! Сержант Бойко, мать твою в лоб!!!