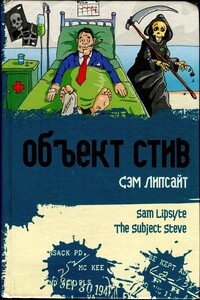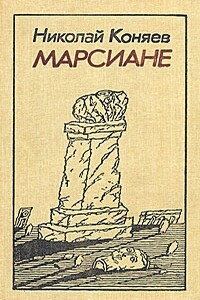Этот неожиданный вывод вытекает из учения Днищева о стимуляции стремлений. Счастьем любого (читай – ненормального) человека представляется достижимая цель в форме чужой собственности в широком смысле, обладание которой невозможно в настоящем, но желательно в будущем. Обладание, по Днищеву, эквивалентно его отсутствию, и на этом аксиоматическом принципе строится вся система жизненного стимулирования пациента. В процессе достижения счастья (в нашем случае – психофизической нормализации) ненормальный клиент претерпевает сложную и непостижимую последовательность метаморфических этапов, на которых он мечтает лишь о приобретении того или иного имущества (одной из эрзац-форм которого является здоровье), которого и лишается в результате его наличия (см.
"Процессуально-оздоровительный катехизис", 1 экз., секретно).
Последним этапом по обеспечению счастья (нормализации) пациента, таким образом, является такое его состояние, при котором несчастный
(счастливый – по Днищеву) мечтает лишь о сохранении жизни и, как следствие, лишается ее. Метаморфически говоря, пациент достигает наивысшего счастья в наиболее несчастной фазе своего существования, логичной кульминацией которой может явиться только смерть – абсолютная жизнь по Петру Днищеву.
Занятия по умственному развитию и нравственной подготовке, а также по древнекарапетскому языку, фольклору и другим гуманистическим дисциплинам, представляющим собой, собственно, лишь разные ракурсы Учения, проводились в том же зале, где пациенты спали, питались, вели хозяйство и, одним словом, жили.
Никакого твердого графика занятий не существовало, вернее, этот график был слишком сложным и непредсказуемым. Как часть общего
Расписания он отпечатывался микроскопическим шрифтом на огромных листах ("простынях") бумаги и вывешивался на стенде, напоминающем всемирный график движения поездов или курс валюты на мировой бирже, на такой высоте и на таком отдалении из-за неизменной толпы пациентов, постоянно наводящих какие-то справки с блокнотиками и авторучками в руках, что-то торопливо переписывающих, высматривающих в театральные биноклики, оттягивающих для лучшей фокусировки углы глаз или просто неподвижно торчащих на самом обзоре, что разобрать что-либо при Алешином неважном зрении было совершенно невозможно. К тому же в последний момент перед самым сигналом (который всегда оставался под вопросом) приходил со стремянкой Вениамин или какой-нибудь другой младший санитар, забирался и делал исправления шариковой ручкой.
Занятия, таким образом, длились иногда по сорок пять-девяносто минут, а иногда и по шесть-восемь часов кряду, а проводились то ежедневно, то по четным (нечетным) числам месяца, то по выходным или в последний (первый) день каждой недели, то отменялись вообще или заменялись какими-нибудь другими дисциплинами в любом вообразимом порядке, представляемом правительством больницы как оптимальный.
Все начиналось с регулярной литургической речевки или коллективной Спазм-медитации. Впрочем, с этого же медицинского действа начиналось любое мероприятие дня. Весь персонал Днищева, включая санитаров, поваров, лесничего, почтальона, поселкового сторожа и продавца аптечного киоска, короче говоря, все "вольные" работники медицинского заповедника, кроме, разумеется, часовых и отпускников, в красочных национальных костюмах – халатах, шароварах, фесках, цвет которых варьировался в зависимости от даты, важности и содержания события, – собирались на той же самой лестнице, по которой людей уводили на процедуры.
Их было, оказывается, не так уж много, каких-нибудь тридцать человек, тех, которые проповедовали и кололи, кормили и оформляли, следили и назначали, от которых зависела степень мучения каждого.
Там, на отдалении, они казались уменьшенными, ручными (почти карманными) и лишенными своего фатального значения, и Алешу удивляло, как эта горсть совсем не сильных да и не слишком умных людей, три четверти которых составляют обыкновенные бабы, умеет держать в трепетной покорности всю бесчисленную толпу ненормальных людей, которая хмуро взирает на них из глубины покоя.