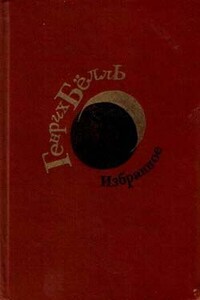В Шехтишехне намывали золото и часть его отдавали тем людям, которые сделали комиссаром Глумова отца, но больше всех золота получал Фриц. Рассказывая о Фрице, Глум рисовал кусты, лес, ягоды и холодную, как лед, Шехтишехну. Фриц знал, как переходить реку вброд, он приходил, приносил с собой сигареты – белые палочки, которые наполняли мозг сухим счастьем, и еще кое-что приносил Фриц – нечто белое в стеклянных трубочках. Из описаний Глума Мартин заключил, что это были ампулы, как те, в которые врач погружал шприц и, наполнив его, всаживал в руку бабушки.
– Глум, а что же с ними делал твой отец?
– Я только потом это понял. Каждую весну в лесной хижине устраивали праздник, в нем должны были участвовать молодые девушки, ни одной пожилой женщины, только молодые, а с ними мой отец и еще два человека – мы их называли шаманами, и когда девушки отказывались прийти на праздник, шаманы предавали их проклятию, и девушки болели. – Тут Глум умолк и покраснел, краска разлилась от шеи по всему лицу, и Мартин догадался, что в хижине, за пятнадцать тысяч километров отсюда, совершалось что-то бесстыдное и даже безнравственное. Но стоило девушкам согласиться, и они тут же выздоравливали; и все это – болезнь и выздоровление – Фриц приносил в своих стеклянных трубочках.
А потом Глум сбежал, потому что по жребию его должны были бросить в Шехтишехну, и бежать ему помог Фриц. Глум рассказывал медленно, иногда скажет две-три фразы, а потом пройдут недели – и ни единого слова больше; как только время подходило к половине седьмого, Глум обрывал свой рассказ на середине фразы, ополаскивал кисть, тщательно обсушивал ее, снова раскуривал трубку и осторожно садился на край постели, чтобы снять шлепанцы и надеть башмаки. За его спиной красиво переливались краски на карте, но незакрашенная часть карты казалась Мартину бесконечной – белые моря, отделенные от суши лишь тонкой карандашной линией, очертания островов, реки, собравшиеся вокруг крохотной черной точки – родины Глума; пониже и левее, в Европе, была вторая черная точка, она называлась Калиновка – место, где погиб отец Мартина, а там, повыше и много левее, почти на краю моря, лежала черная точка – место, где они живут, – маленький треугольник, затерявшийся на огромной равнине. Переодеваясь, Глум отрезал от лежащей на тумбочке тыквы несколько ломтей, укладывал «Догматы» и «Богословие и нравственность» в сумку, спускался на кухню, чтобы наполнить судок, и шел к трамваю.
Иногда проходило немало воскресений, пока у Глума снова появлялось настроение рассказывать, иногда за много недель из него удавалось выжать две-три фразы, но всегда он начинал точно с того места, на котором остановился в прошлый раз. Уже тридцать лет, как Глум покинул свою родину. Фриц помог ему, и он перебрался в город, где жили люди, назначившие его отца комиссаром, – город назывался Ачинск. Там Глум мостил улицы, потом стал солдатом и покатился все дальше и дальше на запад. Глум двигал руками, словно катил снежный ком, когда хотел показать, как он катился на запад. Новые названия всплыли в его рассказе: Омск, Магнитогорск и еще много-много западнее другой город, Тамбов. Но там уже Глум не был солдатом, он устроился на железную дорогу и разгружал вагоны: дрова, опять дрова, уголь, картофель. А по вечерам Глум ходил в школу и учился читать и писать. Жил он в настоящем доме, и у него была жена; звали жену Тата. Глум описывал Тату, рисовал ее, она была белокурая, круглолицая, веселая; Глум познакомился с ней в школе, где он учился читать и писать. Тата тоже работала на железной дороге, пока просто таскала тюки, но собиралась заняться чем-нибудь более интересным и важным, как только научится читать и писать, – тут круглолицая белокурая Тата на рисунке Глума начинала улыбаться во весь рот, потому что ей предстояло сделаться перронным контролером на Тамбовском вокзале и пробивать щипцами билеты. И Тата на рисунке Глума стояла уже в фуражке, из-под которой выглядывала ее толстая белокурая коса, и с компостерными щипцами в руках.
Но самое важное для Глума случилось только через год после его женитьбы на Тате, когда Тата давно уже была перронным контролером на Тамбовском вокзале. Только через год Тата показала ему, что хранится у нее на дне ящика, стоящего в кухне: распятие и образок, и по ночам, когда Тата лежала в постели рядом с ним, она рассказала ему все, и пламя охватило Глума. Глум нарисовал это пламя – много красного и много желтого, – но тут Глума опять сорвало и покатило на запад, словно снежный ком, который становился все больше и больше. Глума уносило все дальше и дальше от Таты, потому что началась война. Глума ранило, он покатился обратно, на восток, в Тамбов, но Таты там уже не было, и никто не знал, куда она делась; в своей железнодорожной фуражке и с щипцами в руках она ушла как-то утром и не вернулась. Глум остался в Тамбове, разыскивал Тату, но и следа ее не нашел. И опять он покатился на запад, и опять война – рана уже зажила, и опять он все катился, катился до новой остановки, – Глум называл ее не концентрационный лагерь, а просто лагерь. Здесь Глум лишился волос и зубов, и не только от голода, но и от ужаса. Когда Глум произносил слово «ужас», это звучало ужасно, не яблоки, не воздушные шарики, а ножи сыпались из его рта, и лицо его так менялось, что Мартин пугался, как пугался он, когда Глум, бывало, засмеется. А смеялся Глум тогда, когда Больда приходила к нему в комнату, чтобы петь с ним вместе хоралы. Глум пел хорошо. У него был высокий сильный голос. Но стоило запеть Больде, как на Глума нападал смех, а смех его звучал так, будто сотни маленьких ножей рассекали воздух. Когда Больда продолжала петь, невзирая на смех Глума, Глум очень сердился и говорил умоляюще: