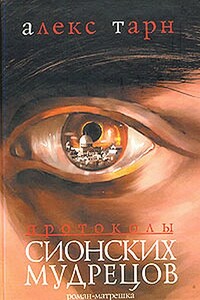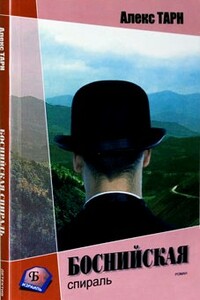Трактирщик схватил Клауса за локоть и жарко зашептал в самое ухо.
— Францисканец объяснил, что они верят в одного Бога, единственного, что кроме того Бога нет ничего — ни Спасителя нашего Иисуса, ни Святой Девы Марии, ни даже самого Сатаны.
— А что плохого в том, что они не верят в Сатану? — удивленно сказал Клаус, отстраняясь. — Не понимаю я. Как это — сатанинское отродье в Сатану не верит?
— Вот и я не сразу понял! — восторженно запрыгал толстяк. — А все, оказывается, проще простого. Слушай. Ежели кто в Сатану не верит, то это означает одно: что для него все одинаково, все дозволено, понимаешь?
— Нет…
— Ну сам посуди. Вот у нас с тобой есть добро — это Иисус. А с другой стороны есть зло — это Сатана. Все ясно, все отличимо. Праведные дела — от Спасителя; грехи — от Сатаны. Так?
— Так.
— Ну вот. А теперь представь, что нет Сатаны. Что это значит?
— Что нет зла? — догадался Клаус.
— Правильно! — возопил трактирщик, хлопая себя по бокам. — Нет зла! То есть, для них, для жидов, нет зла. То, что для нас грех, преступление, для этих нехристей — обычное дело. А значит, разрешено все… даже пить детскую кровь и отравлять колодцы. Понимаешь?
Клаус задумался. Сказанное было слишком ново для него, хотя и просто до необычайности. Это ж надо же, какой умный францисканец забрел в страсбургский трактир… Трактирщик прервал его размышления.
— Прощай, мил-человек. Пойду-ка я, а то уж больно мы с тобой разговорились. Какой трактирщик не любит почесать язык? — добродушно посмеиваясь, он обвязал вокруг пояса бич и поднял с земли котомку. — Так ведь и представление пропустим. Кажись, уже начинается…
Клаус проводил его взглядом. Нет, что-то здесь не так. Как это — зла нету? Это ведь против всякой очевидности. Есть оно, еще как есть! Краснорожее, хрипатое зло кипело на площади, выплескиваясь в прилегающие улицы белой пеной балахонов, царапая криками сумеречное небо, полируя локтями мокрые столы кабаков. Зло ждало темноты, зло сладострастно оттягивало неминуемое удовольствие, подобное лесному разбойнику, который, развалившись на спине и широко расставив ноги, нежно поглаживает свой вздувшийся гульфик, поглядывая при этом на связанную, обреченную, полумертвую от ужаса жертву, и слюна стекает из его зловонного рта.
Ноги сами понесли Клауса к ратуше. Недалеко от нее, вокруг прадедовой синагоги стояла мрачно молчащая, словно набычившаяся толпа горожан. Тут и там белели балахоны Братьев Креста. Из синагоги доносилось высокое пение, перемежающееся многоголосым бормотанием.
— Ишь, воют-то как, бесовское семя… — сказал кто-то за спиной у Клауса.
— Нынче у них праздник какой-то, вот и воют, — отозвался другой.
— Праздник, а света не зажигают, скупятся.
— А зачем им свет? Они ж Сатану зовут, а Сатане темнота сподручней.
— Сейчас дозовутся, только на этот раз — на свою голову!
Быстро темнело. Башня ратуши уже почти потерялась на черном фоне зарейнского неба. Темнота опускалась на толпу, добавляя свой весомый платеж к угрюмой, темной, по грошу скопленной ярости.
— Да что ж это такое! — кто-то в балахоне выскочил из человеческого кольца на свободное место, вскинул вверх руки с напряженно растопыренными пальцами, задергал головой в визгливой истерике. — Что ж это деется, братья-христиане?! Доколе крови нашей литься? Что же вы стоите? Что же… что же…
Упал, забился в падучей. Дрогнуло высокое пение в синагоге, дрогнуло и тут же выпрямилось, длинной и пронзительной мольбой к Страшному Судье. Дрогнула черная толпа, напряглась, ожидая последнего знамения, сигнала, знака.
— Стойте! Стойте! — это зычный голос бургомистра. Откуда? Да вон он, в окне ратуши, размахивает факелом. — Только не жечь!
О чем это он?..
— Только не жечь! Иначе ратушу спалите! И весь город в придачу! Только не жечь!
Толпа заревела и бросилась вперед. Зазвенели, посыпались стекла. Сломалось, сникло пение кантора, а вместо него возник низкий вой, страшный и отчаянный. Он вывалился из разбитых окон синагоги, плюхнулся в истоптанную сотнями ног осеннюю грязь, тяжелым шаром покатился по улицам еврейского квартала, в каждый двор, в каждый дом, в каждую лачугу. Минута — и уже весь квартал стонал этим ужасным предсмертным стоном, как будто убивали не людей, а здания, стены, двери, домашние очаги.