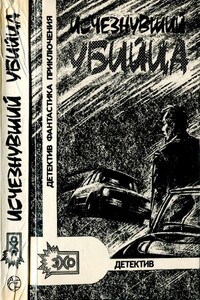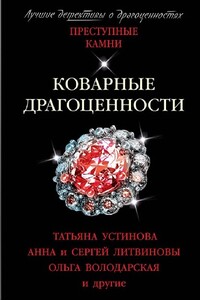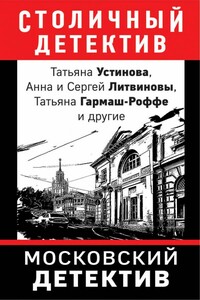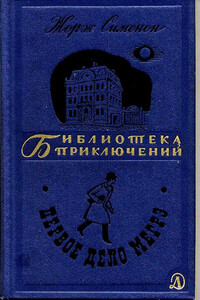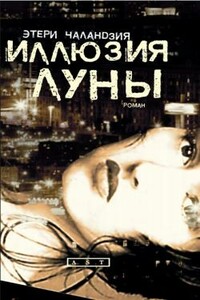— Так нет же! Нет! Нет! И нет! Я всеми силами протестую против такого способа делать выводы! Из нескольких разрозненных букв вы строите имя и, не задумываясь, прибавляете к нему мою фамилию. Предположим даже, что это верно, но продолжение письма разрушает все, что создало начало. Вы говорите «22, rue de…», а где же название улицы? Да, наконец, я никогда не жил в номере 22. Если вам так хорошо известно, что я заходил к себе домой, то вы и это должны знать. Я требую, чтобы это было занесено в протокол.
Про себя же он думал:
«Вот маленькая уловка, за которую ты поплатишься, когда я выйду из тюрьмы! Положительно, я начинаю приобретать материалы для моих статей».
— Ваш протест будет занесен в протокол, не беспокойтесь. Но вслед за ним мы поставим следующее маленькое примечание. Перевернем эти разрозненные клочки бумаги с несвязными буквами — гм, гм, вы видите? — Читайте (на этот раз полностью): «Inconnu au 22, voir au 16». Вы живете в номере 16 на улице Дуэ. Это письмо, адресованное по ошибке в № 22, было вам оттуда переслано, и эта путаница случилась уже не раз с вашей корреспонденцией. Итак, вы видите, что, утверждая, что письмо принадлежит вам, я не делаю фантастических выводов. Теперь, если вы имеете что возразить, я вас слушаю.
Кош опустил голову. Разрывая конверт, он совершенно забыл о справке, сделанной на обороте, и ясно понял теперь, что мнение следователя уже составлено. Он ограничился словами:
— Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Единственно, что я утверждаю, в чем я клянусь, это то, что я невиновен, что я не знал убитого, никогда не был с ним знаком и что вся моя прошлая жизнь свидетельствует против такого обвинения.
— Может быть, но на сегодня довольно. Вам прочтут ваш допрос, и, если хотите, вы можете его подписать.
Кош рассеянно прослушал чтение протокола допроса и подписался. Потом машинальным движением протянул руки надзирателю, чтобы тот надел ему наручники, и вышел.
В коридоре адвокат обратился к нему:
— Завтра утром я приду к вам, нам нужно с вами о многом поговорить…
— Благодарю вас, — ответил Кош.
И он пошел вслед за надзирателем по узким коридорам, ведущим к выходу. Оставшись один в камере, он погрузился в долгие тяжелые размышления. Куда девался предприимчивый репортер, острый на язык, смелый и изобретательный. Он начинал раскаиваться в своей затее. Не то чтоб он боялся за исход дела — он знал, что одним словом может уничтожить все улики, — но он чувствовал, как вокруг него все теснее и теснее затягивается петля и что, попав пальцем в тиски судебной машины, ему придется сделать гигантское усилие, чтобы не оставить в ней всей своей руки! Он хотел посредством своей уловки смутить полицию, натолкнуть ее на ошибки, на неосторожности, а вместо того оставил против себя такие улики, что самый непредубежденный человек не задумался бы сказать при виде его:
— Вот виновный!
В сущности, убеждение следователя было вполне понятно. А что сказал он в свое оправдание?.. Ничего. Он клялся в своей невиновности. И что же дальше? Голос правды? Его так же легко узнать, как и «голос крови». Когда лжец говорит правду, она звучит, как ложь. Томление неизвестности еще более усиливало его волнение. Какие еще улики имеются против него? Он не сумел ничего ответить на вопросы, два из которых он должен был предвидеть; как же в таком случае отведет он обвинение, которого даже не подозревает? Он должен только отрицать и отрицать, даже против всякой правдоподобности, даже против очевидности. Нечего было и думать заронить сомнение в уме следователя. Единственная надежда его была на то, что, когда дело дойдет до побудительных причин, он будет неуязвим. Из следствия будет видно, что он не знал даже о существовании этого Форже, что никто из его знакомых не слыхал даже его имени; не держать же в таком случае в тюрьме человека с безупречным прошлым, если не имеешь возможности сказать:
— Вот почему он убил.
На другое утро к нему пришел защитник. Он начал с общих вопросов, расспрашивая о его жизни, привычках, знакомых, напирая на некоторые пустые подробности, но, видимо, не решаясь начать разговор о преступлении. После четверти часа такой беседы Кош, все более и более раздражавшийся, обратился к нему: