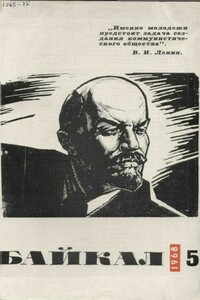Не до веселья было лишь князьям. Войдя в хорошо натопленную юрту Бальгура, они сбросили шубы, расселись вокруг огня. Прислужники тотчас подали горячее молоко. Старый князь не спеша принялся пить его маленькими глотками, жмуря глаза и кряхтя от удовольствия. Вытягивая трубочкой толстые губы, прихлебывал Бабжа. Гийюй же некоторое время дул на молоко, наблюдая, как разбегаются по нему стрельчатые морщины пенки, потом отставил чашу в сторону и хмуро сказал:
— Князь, вели, чтобы принесли чего-нибудь крепкого.
Бальгур хлопнул в ладоши, отдал распоряжение. Снова забегали прислужники с глиняными тарелками, кувшинами, бронзовыми котлами. Бабжа оживился, зачмокал и, забыв про молоко, придвинулся к Гийюю.
По первой чаше князья выпили в молчании. Бальгур, как обычно, сделав лишь небольшой глоток, налил гостям снова.
— Хорошо! — заговорил Гийюй, мрачно глядя в огонь, — Хорошо, пусть мы, двадцать четыре рода Хунну, чем-то очень сильно прогневили предков, и пусть искуплением были поражения в войнах последних лет, потери лучших наших земель и несчастный Тумань. Но неужели всего этого показалось духам недостаточно, если они насылают на нас новые беды, ставя шаньюем человека, в ком жестокость уживается с трусостью?
„Всем хорош Гийюй, но тороплив, — подумал Бальгур. — Все ему подавай тотчас… Хотя и сам я в его годы был горяч не меньше…“
— Тише, тише, чжуки! — испуганно зашипел Бабжа. — Как можешь ты осуждать волю духов? Не навлекай еще больший их гнев!
— Да, новые беды! — упрямо продолжал Гийюй. — Ибо жестокий трус — это много страшнее, чем жестокий храбрец: он будет свирепствовать боясь и бояться свирепствуя!
— Нет, Модэ — не трус, — нерешительно возразил Бабжа.
— А кто же?! — рявкнул чжуки прямо в лицо отшатнувшемуся толстяку. — Где и как Модэ проявил мужество? Тем, что казнил мачеху и своего подростка-брата? Обезглавливал нукеров? Убил жену? Руками своих воинов прикончил отца?
— Давно ли ты, чжуки, восхищался этими его поступками? — не выдержал Бальгур. — Модэ молод, шаньюем стал лишь недавно, посему с похвалой или порицанием следует подождать. Жесток? Что ж, Тумань был мягок, оттого мы и сидим сейчас здесь, на самом краю былых своих владений. Трус? Об этом говорить еще рано, войска в битвы он пока не вводил. Отдал коня? Но ведь дань дунху мы платим не первый уже год, и лишний конь ни позора, ни славы нам не прибавит. Так я думаю, князья.
В ответ Гийюй лишь сверкнул глазами и единым дугам опорожнил свою чашу.
— Да-да, так и я подумал давеча, — подхватил Бабжа. — Велика ли ценность — конь…
— Да еще выхолощенный, — язвительно вставил чжуки и повернулся к Бальгуру. — На сегодняшний Совет молодому шаньюю следовало позвать одного Бабжу. Им пришлось бы решать важное дело: отдать ли дунху аргамака так просто или же сначала выхолостить его. — Гийюй недобро рассмеялся, словно закаркал, и взялся за кувшин. — Подставляй, князь Бабжа, свою чашу — будем пить, ибо ничего другого нам не остается!
Толстяк не возражал.
Бальгур жевал губами и невозмутимо поглядывал на закипающего злым весельем западного чжуки. Захмелевший Гийюй конечно же соберет лихую ватагу из князей помоложе и хорошеньких невольниц, и все они будут всю ночь со свистом и хохотом носиться по ставке, врываться в гости и требовать угощения, во всеуслышанье поносить шаньюя и затевать потасовки. Что ж, пусть, иначе Гийюй не может. Вот Бабжа с ним не увязался бы — не те у него годы. Бальгур посмотрел на зарумянившегося и залоснившегося толстяка и успокоился — судя по всему, Бабжа отсюда своими ногами не уйдет.
— Если я хоть сколько-нибудь знаю дунху, то на этом они не остановятся, — скорее для себя, чем для Бабжи, говорил Гийюй. — Хунну для них — как кость в горле. Пусть мы десять раз разбиты, но Великая степь все еще наша, и пинком нас с дороги не сбросишь. Верно я говорю, князь Бабжа?
Бабжа старательно кивал лысой головой, но, похоже, не совсем понимал, о чем речь.
— Им кажется, — гнул свое чжуки, — что сейчас самое время окончательно добить Хунну. Они не успокоятся, пока не получат войну, помяни мое слово!
Потом что-то бубнил Бабжа, но Бальгур уже не слушал их. Он закрыл глаза, ощущая в себе одну только огромную, всепоглощающую усталость. Долгими десятилетиями копилась она в нем, и было в ней все: и битвы, и нескончаемые степные дороги, и любовь, и веселые пиры, и охоты, и радость отцовства, и смерть друзей, и власть над людьми, и многое, многое другое. Ничто не прошло бесследно, каждый прожитый день оставлял свой след, пока не выросла вот эта окончательная усталость, гудящая в каждой жилке тела. Бальгур начал задремывать, погружаясь в какие-то невыразимо успокоительные и сладостные волны, и тогда в голове прозвучал отчетливый и ясный голос, спросивший с любопытством: „Что, это и есть смерть?“ Старый князь мгновенно очнулся. Гийюй и Бабжа продолжали пить и разговаривать. То стихая, то усиливаясь, завывал снаружи ветер. „Гийюю хорошо — для него все просто, — подумал Бальгур. — В старости же многое начинает видеться иначе. Боязнь появляется. Не за себя, нет…“ Он как бы наяву увидел вдруг перед собой безбрежную, ночную, гудящую метелями и дымящуюся снегами Великую степь. О духи, чем станет для его народа эта суровая необъятная страна — последним прибежищем и могилой или же горнилом, пройдя через которое, воинственные сыны Хунну устремятся в новые победоносные походы? О чем думает в этот час в своей пустой угрюмой юрте двадцатилетний предводитель степной державы?..