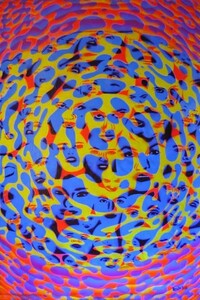Доказательство и вера. Философия и религия с XVII века до наших дней - страница 212
Важным элементом такой защиты теизма стал тезис о пользе того, что существование Бога не является неопровержимым или очевидным. Хик утверждает, что тварный мир свободных существ должен находиться на определенной «эпистемической дистанции» от Бога, в противном случае вера в Бога была бы вынужденной и отчасти утратила бы свою силу[1052].
В дискуссиях по поводу доказательств есть еще как минимум два момента. Первый касается границ нашего познания. Некоторые теисты придерживаются скептической позиции, утверждая, что они не знают, в чем заключается смысл или цель какого-либо (всего или почти всего) зла. Но это не доказывает, что у зла нет никакого смысла или цели. Неспособность видеть смысл была бы доказательством бессмысленности зла только в том случае, если бы вы были в праве рассчитывать на то, что смогли бы увидеть этот смысл, если бы он там был. Причина, по которой тот факт, что я не вижу слона в моем кабинете, является надежным доказательством отсутствия такового, заключается в том, что я бы увидел его, если бы он там был. Уильям Элстон, в частности, суммирует множество ограничений, которые не позволяют нам сделать вывод о том, что Бог не может допустить зло (или вывод о том, что Бог, если Он существует, не должен был творить и поддерживать этот мир):
1. Недостаток данных. Сюда относятся, среди прочего, тайны человеческого сердца, точное устройство и структура Вселенной, а также далекое прошлое и будущее, в том числе загробная жизнь, если таковая имеется.
2. Сложность, превышающая наши возможности. В первую очередь речь идет о том, что трудно удерживать в уме огромные массивы данных – разные возможные миры или различные системы естественных законов, – чтобы можно было провести сравнительную оценку.
3. Сложность определения метафизически возможного или необходимого. Как только мы выходим за рамки концептуальных или семантических модальностей (и даже это не так-то просто), становится очень трудно находить хоть какое-то достаточное основание для утверждений о метафизически возможном, соответствовавших бы сущностной природе вещей, точный характер которых зачастую неизвестен нам и практически всегда спорен. Эта трудность многократно возрастает, если мы имеем дело с совокупностью возможных миров или совокупностью систем естественного порядка.
4. Незнание всего спектра возможностей. Оно всегда накладывает ограничения на наши попытки прийти к отрицательным выводам. Если мы не знаем, возможно ли нечто, выходящее за рамки наших представлений, то мы не в силах показать, что не может быть никаких божественных оснований для того, чтобы допустить зло.
5. Незнание всей области значений. Когда вопрос состоит в том, связано ли некоторое благо с З [где З обозначает конкретный случай страданий] таким образом, чтобы оправдать допущение Богом З, мы, по причине, упомянутой в п. 4, не можем ответить на этот вопрос, если мы не знаем о видах значения, которые стоят за тем, что нам известно. Ибо в данном случае, насколько мы способны судить, З может быть оправдано в силу его связи с одним из этих неведомых благ.
6. Ограниченность нашей способности выносить взвешенные ценностные суждения. Самым ярким примером этому, как мы уже отмечали, является трудность, возникающая при проведении сравнительной оценки крупных сложных массивов[1053].
Такой акцент на пределах наших познавательных способностей главным образом уместен в случае теистической защиты, а не теодицеи[1054].
В подобных защитах играет роль еще один, связанный с этим фактор – дискуссии о том, должен ли Бог творить наилучший из возможных миров или же Он не обязан этого делать; сам факт, что может существовать мир, лучший, чем наш, не является убедительным возражением против теизма[1055].
Оставшиеся пять особенностей этого «ситуационного анализа» современной философии религии мы рассмотрим более кратко.
Индивидуализм и холизм. Иногда проблему зла разрабатывают, или утверждая, что всеблагой, всемогущий Творец сделал бы все для того, чтобы у каждого существа была достойная жизнь, или признавая, что если творение в целом хорошо, то этого достаточно, несмотря на несправедливые страдания некоторых существ. Вернемся к олененку Роу: должен ли всеблагой Творец принять все меры для того, чтобы жизнь конкретного олененка была хорошей, или же важно только то, что, несмотря на страдания отдельной особи, существует популяция оленей? Здесь мы видим любопытное пересечение между философией религии и экологической этикой. Защитников окружающей среды можно разделить на индивидуалистов, внимание которых сосредоточено на отдельных особях, и экологов (также известных как холисты или экохолисты), подчеркивающих благо экосистем