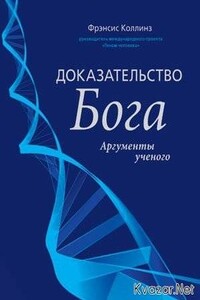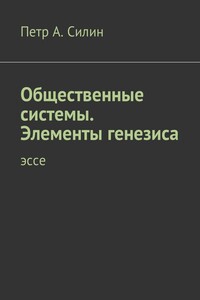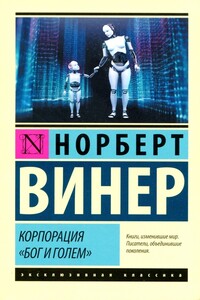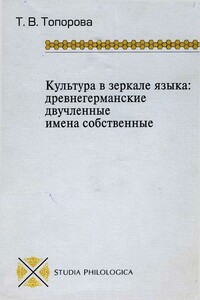Мы сравнительно мало знали о возможном содержании генома. Увидеть под микроскопом нуклеиновые основания какого-либо конкретного гена не представлялось возможным (для этого они слишком малы), охарактеризованы на тот момент были лишь несколько сотен генов, и разные оценки количества генов в геноме очень сильно друг от друга отличались. Даже точного определения гена не было (и сейчас нет), поскольку оказалось, что ген не всегда можно определять как цепочку, кодирующую определенный белок. Исследования ДНК позволили выявить так называемые интроны — сегменты генов, не содержащие информации о последовательности аминокислот белка. Из РНК интрон удаляется до начала считывания кода, и в зависимости от того, как соединятся друг с другом кодирующие участки, с одного и того же гена в определенных случаях может быть считано несколько разных (но родственных друг другу) белков. Далее, между генами обнаруживались длинные цепочки ДНК, которые, судя по всему, ничего не кодировали; некоторые исследователи даже называли их «мусорными», хотя, учитывая скудость наших знаний, требовалась немалая самоуверенность, чтобы объявить какую бы то ни было часть генома мусором.
Несмотря на все сомнения, гипотетическая ценность полного генома представлялась мне бесспорной. Ведь в этой огромной инструкции удалось бы найти полную «спецификацию» человеческого организма, а заодно и ключ к множеству заболеваний, природу которых мы плохо понимаем и которые не умеем эффективнно лечить. Для меня как врача возможность раскрыть эту самую могущественную на свете книгу по медицине была особенно притягательна. Поэтому я, со своим скромным на тот момент академическим статусом и без уверенности, что столь смелый план удастся осуществить на практике, принял участие в дискуссии, выступив за организацию программы по секвенированию генома — вскоре она получила известность как проект «Геном человека».
Через несколько лет мое желание видеть геном человека полностью расшифрованным еще усилилось. Я возглавил новую лабораторию, где под моим началом работали серьезные и трудолюбивые аспиранты и молодые научные сотрудники, и мы предприняли попытку раскрыть генетическую основу некоторых заболеваний, до тех пор не поддававшуюся определению. Первым из них был муковисцидоз, или кистозиый фиброз — самое распространенное тяжелое наследственное расстройство в странах Северной Европы. Болезнь обычно проявляется в младенчестве или в раннем детстве — ребенок мало прибавляет в весе и постоянно страдает от респираторных инфекций. Муковисцидоз можно опознать по повышенной концентрация ионов хлора в детском поте — наблюдательные матери замечают соленый привкус, целуя ребенка. Для болезни также характерны густые вязкие выделения в легких и поджелудочной железе. Но ни один из известных признаков болезни не давал даже косвенных указаний на назначение вызывавшего ее гена.
Впервые я столкнулся с муковисцидозом в конце 1970-х, когда проходил медицинскую практику в больнице. Еще в 1950-х гг. страдающие им дети редко доживали до десяти лет, однако к 70-м ситуация значительно изменилась к лучшему, так что многие больные вырастали, заканчивали колледж, шли на работу, вступали в брак. Но все это было достигнуто благодаря совершенствованию симптоматического лечения — созданию препаратов, заменяющих гормоны поджелудочной железы, новых антибиотиков, эффективных против легочных инфекций, специальных диет и методов физиотерапии. В том же, что касается борьбы с самим заболеванием, долгосрочная перспектива по-прежнему оставалась мрачной. Не понимая природы наследственного дефекта, медики блуждали на ощупь. Мы лишь знали, что где-то среди 3 млрд букв кода ДНК есть как минимум одна ошибочная, расположенная в уязвимом месте.
Трудности, связанные с нахождением такого тонкого отличия, представлялись почти непреодолимыми. Однако мы знали, что муковисцидоз наследуется по рецессивному типу. Поясню, что означает этот термин. Каждый наш ген существует в двух экземплярах: один получен от матери, другой от отца. (Исключение составляют гены, содержащиеся в хромосомах X и Y, которые у мужчин представлены только в одном экземпляре.) Рецессивная патология проявляется, только если она присутствует и в материнском, и в отцовском экземпляре гена, т. е. оба родителя являются ее носителями. Когда же в одном экземпляре гена патология есть, а в другом нет, болезнь никак не проявляется, так что ее носители, как правило, не подозревают о своем статусе. (Примерно каждый тридцатый житель Северной Европы — носитель муковисцидоза, и в семейной истории большинства из них болезнь не зафиксирована.)