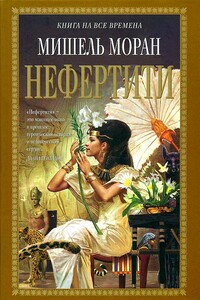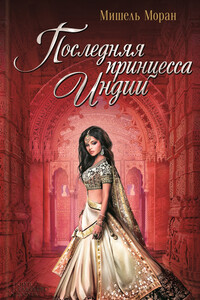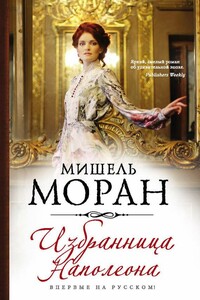Александр ухмыльнулся.
— Правда. Скачки нравились ему больше всего на свете.
— Больше собственного царства, — добавил Цезарь, и брат болезненно вздрогнул. — Ну а твоя сестра? Отец и ее научил кататься верхом?
— Нет, — произнес он уже безрадостным тоном. — Она рисует.
Октавиан нахмурился.
— Разные здания, храмы, — пояснил мой брат.
— Покажи мне какой-нибудь из рисунков.
Александр вернулся в каюту, и я рассерженно замотала головой, прошипев:
— Никогда! Ты что, не слышал? Он думает, наш отец промотал свое царство.
— А разве папа любил что-нибудь больше вина и скачек?
Я вспомнила его предсмертную просьбу — и молча откинулась на подушки.
— Мне приказали, Селена. Что, если это проверка? Пожалуйста. Покажи ему вид на Александрию. Тот, который ты рисовала из храма Сераписа.
Птолемей посмотрел на меня большими голубыми глазами, полагая, что я попрошу свой альбом.
— Селена, — тревожно шепнул Александр. — Они ждут.
Это была правда. Мужчины следили за нами сквозь листья посаженных в глиняные горшки пальм, но, к счастью, не могли слышать нашей приглушенной перепалки.
— Ладно, подай альбом.
Птолемей переполз через всю кровать и бережно, словно редкое сокровище, передал мне рисунки в кожаном переплете, на котором Хармион золотыми чернилами вывела аккуратную надпись. Дочь знаменитого в Египте архитектора, она с юных лет усвоила две науки — умение ценить красоту зданий и восхитительный почерк, без которого зодчему не обойтись. От нее обе эти страсти передались и мне.
— Скорее! — взмолился брат.
Я отыскала и развернула неподшитый рисунок, изображавший Александрию с ее дорогами, храмами, дворцами, раскинувшуюся подобно крыльям белой цапли у мыса Лохий. Хармион привила мне любовь к мелким подробностям; внимательный глаз мог различить даже клочья пены у Маяка и застывшие лица мраморных кариатид, окаймлявших Канопскую дорогу.
Выхватив у меня пергамент, брат поспешил на залитый солнцем внутренний двор. Агриппа взглянул на рисунок, передал его Юбе, тот — Цезарю; все помолчали. Октавиан сдвинул на затылок широкополую соломенную шляпу, чтобы лучше видеть.
— Это твоя сестра сделала?
— Да, в девять лет, из храма Сераписа.
Цезарь провел по рисунку пальцем, и я, даже не заглядывая через плечо, могла сказать, что он видит перед собой. Сначала в глаза бросался четвероугольный Маяк, увенчанный бронзовыми изваяниями морского бога Тритона. Потом, конечно, гигантская статуя Гелиоса, копия колосса Родосского, между ногами которого располагался Гептастадион. Дальше — Мусейон и высокие обелиски, привезенные из Асуана, театр, публичные сады и дюжина храмов, посвященных нашим божествам.
— У твоей сестры настоящий талант. Можно, я это оставлю себе?
— Нет! — придушенно вырвалось у меня.
Мужчины обернулись, и Александр торопливо вставил:
— Она говорила с братиком. Да, разумеется, можно.
От возбуждения мои ногти впились в ладони — привычка, также усвоенная от Хармион, — и Птолемей спросил:
— Что случилось?
— Брат раздает мои вещи.
Его личико недоуменно сморщилось.
— Мы и так раздали все, что было во дворце.
— Нет, — возразила я, еле сдерживая гнев. — Сокровища у нас отобрали. Теперь Октавиану понадобилось еще и это.
Когда Александр вернулся, я не могла даже смотреть на него.
— Что на тебя нашло? — резко прошипел он, убирая пряди волос, выбившихся из-под жемчужной диадемы. — Помни, мы больше не дома.
— Человек, которому ты сделал подарок, убил твоих родителей!
— Думаешь, победи наш отец, он пощадил бы кого-нибудь? Даже наследников Октавиана?
— Нет у него никаких наследников! Только дочь.
— А если бы были?
— Прекрасно, мы живы! Пока. Только потому, что Октавиану не хочется волочить по улицам Рима смрадные трупы. Погоди до конца триумфа, — предупредила я. — Антилла прикончили у подножия статуи Цезаря. Цезарион обезглавлен. Как по-твоему, что будет с нами?
— Цезарь уже сказал. Тебя выдадут замуж.
— Думаешь, это лучше смерти? Выйти за римлянина?
— Наш отец тоже был из римлян.
— Только по крови, а в остальном — настоящий грек. Вспомни, как он одевался, каким богам поклонялся, на каком языке разговаривал…
— Ну, это не на ратном поле.