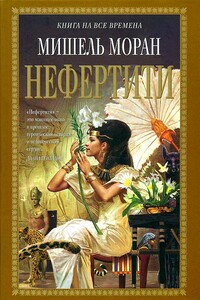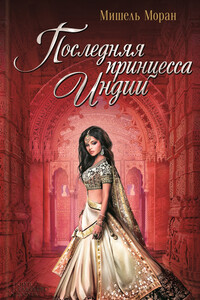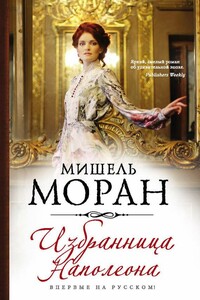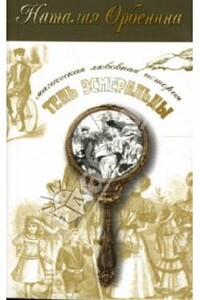Губы Александра изогнулись уголками вниз, и я поняла: он тоже борется со слезами.
— Да, это там, где отец провозгласил тебя царем.
При виде гимнасия солдаты, сопровождавшие нас, обменялись изумленными возгласами. Окруженное тенистыми рощицами здание протянулось более чем на два стадия[3] в длину; его портики были тщательно выбелены гипсом, из-за чего мерцали даже при лунном свете. Однако Октавиа-ну было не до красот местного зодчества.
— Повторим еще раз все, что я написал, — велел он.
Агриппа торопливо развернул свиток, дотоле спрятанный в складках его плаща, и проговорил:
— Сначала — о самом городе.
— А потом?
— О том, сколько жителей Александрии станут римскими рабами.
Октавиан резко мотнул головой:
— Ни одного.
Агриппа нахмурился.
— Твой дядя привез из Галлии сто пятьдесят тысяч мужчин…
— И что получил взамен? — пренебрежительно перебил его Юба. — Спартака. Восстание рабов, не оценивших блага, дарованные Римом.
— Верно. В мавзолее царицы достанет золота рассчитаться с каждым солдатом, сражавшимся за меня. На этот раз мы не станем платить рабами.
— А если солдаты потребуют женщин?
— Пусть покупают блудниц.
У самых ступеней гимнасия, где воины с тяжелыми щитами наперевес отсекли нас от народа живой стеной, я вдруг остановилась, не в силах двинуться с места.
— Что с тобой? — зашипел Александр.
Я была слишком напугана. Мне представилось, что случится, если Октавиану придет на ум поджечь это здание. Начнется столпотворение; мужчины устремятся на воздух, давя ногами упавших женщин и детей, а входы и выходы окажутся перекрыты римскими солдатами. Двери будут заперты точно так же, как в мавзолее матери. Я замерла у подножия длинной лестницы, и Агриппа шагнул ко мне.
— Не надо бояться. Если бы Цезарь желал вашей смерти, вас уже не было бы в живых.
«Ну конечно, — сообразила я. — Мы ведь нужны ему для триумфа». И пошла вслед за ярко-красной накидкой.
Внутри гимнасия при виде Октавиана тысячи горожан безмолвно рухнули на колени.
— Теперь понимаю, — саркастически заметил он, — чем Антония так привлекал Египет.
— Ты фараон, — вставил один из солдат. — Прикажи, и эти люди станут голыми танцевать на улицах.
— Я думал, они здесь и так это делают, — ухмыльнулся Юба, и на лице Октавиана впервые мелькнула улыбка.
Поднимаясь на высокий помост, я пыталась угадать, одинаково ли плохо нам с Александром в эту минуту. Отец рассказывал, как после битвы при Филиппах Октавиан велел перебить всех пленников до единого. Двое из них, отец и сын, взмолились о пощаде, но победитель велел оставить жизнь лишь одному из них: пусть, мол, сыграют в морру[4]. Старик отказался, сам попросил о казни. Девятнадцатилетний Октавиан лично расправился с ним, а когда оставшийся в живых сын захотел покончить с собой — насмешливо предложил ему свой клинок. Даже наш отец, не чуравшийся поля битвы, видел в его притязаниях на престол Цезаря одну лишь бессердечную одержимость.
Едва мы взошли на помост, как Октавиан воздел кверху руки (под его тогой блеснула незамысловатая кольчуга, и я снова подумала: может, найдется еще отважный александриец, готовый пожертвовать жизнью, лишь бы освободить Египет от ига захватчика) и произнес:
— Можете встать.
Озаренный факелами гимнасий наполнился гулом; тысячи тел одновременно распрямились. По всему периметру, возле каждого из окон и тяжелой кедровой двери рядами по семеро стояли солдаты — на случай бунта. Но люди просто поднялись молча, и стоило Октавиану заговорить, как они затаили дыхание, ожидая собственной участи. Когда он заявил, что на этот раз обойдется без порабощения, что город не понесет на себе вину правителей и что воины противника будут помилованы, то и тогда ни единый звук не нарушил мертвой тишины.
— Ибо Египет принадлежит не Риму, но лично мне, избранному потомку Птолемеев, — провозгласил победитель. — А я всегда защищаю свое.
Женщины в тревоге прижали к себе детей, смущенно поглядывая на мужчин, стоявших рядом. О жестокости Октавиана в Египте слагали легенды.
Наконец подал голос великий жрец Исиды и Сераписа:
— Он даже пощадил младших детей нашей царицы. Ура Октавиану Милосердному, царю над царями!