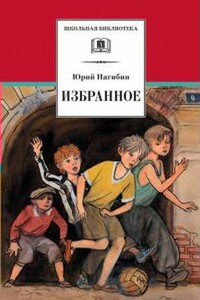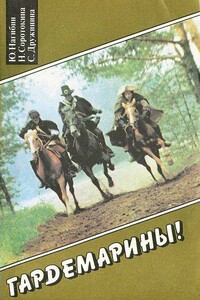Вечером после ужина остались послушать будапештский джаз. Девка с голой, худой спиной низким голосом пела, орала, хрипела, шептала, плакала какие‑то джазовые псалмы, она даже свистела губами и в два пальца. Потом пел красивый, какой‑то налакированный парень и тоже здорово. Я запомнил один куплет:
Оле, оле на контрабас,
Пора, пора пуститься в пляс —
или что‑то в этом роде.
Двое суток в таком номере, как у меня, способны заставить человека многое пересмотреть в себе и в окружающем.
Мне по — настоящему нескучно только на даче, в близости письменного стола, родных людей и собак.
Был на кладбище. Мощные медные деревья. На многих гранитных и мраморных плитах покойники объявлены впрок. Например: «Елизабет Папп 1889 — …… Остается лишь заполнить пропуск. Один старичок, похоронивший жену в 1936 году, вот уже двадцать четыре года оставляет место пустым. Сейчас ему сто пять лет. У бедных над могилами какие‑то деревянные грибки. Много свежих цветов и ужасные искусственные венки и бутоньерки в виде сердец.
Большим спокойствием и ясностью веет от этого кладбища. Мне, по правде говоря, было бы скучно жить, если б я был уверен, что непременно умру и непременно в Дебрецене. Как ни тихо живешь, а всё рассчитываешь на какую‑то неожиданность.
А потом мы были в музее, где вся человеческая культура предстает в какой‑то пошлой, захолустной миниатюрности. От скелета неандертальца до пейзажей местных абстракционистов путь тут необычайно короткий: минут семь, три зала.
Еще были в больнице, где прекрасный парк. Запах осенней листвы, чистые красивые халаты на больных и врачи, переезжающие из корпуса в корпус на велосипедах.
Университет. Великолепное белое здание с рекреационным залом на дне глубочайшего, но очень светлого каменного колодца — нечто вроде внутреннего двора среднеазиатских домов. Красивые, нарядные, очень юные студенты. Курить можно во всех коридорах, в стену вделаны железные пепельницы, воздух свеж, отличная вентиляция. От молодежи веет незамороченностью, неотягощенностью противоестественными условностями. От них требуется одно — хорошо учиться. Предполагается, что моральная основа у них и так есть.
27 — го утром отъезд в Мишкольц. Скучная дорога, мутная и широкая Тисса. Равнинно и грязновато. Мишкольц — полугород, полудеревня, воздух полон копоти и серной вони. В вестибюле гостиницы — аквариумы с золотыми рыбками. Нетерпеливое ожидание обеда. Вообще я заметил: трапезы во время путешествий едва ли не самое привлекательное и волнующее. Понятно, почему Гончаров так много писал о жратве в своем «Фрегате, Паллада“».
У стойки бара старуха пила пиво, деловито взбалтывая осадок.
Стоит задуматься над тем быстрым изживанием отчаяния, которое уже не в первый раз происходит со мной. В душевной жизни, как нигде, надо придерживаться талейрановского принципа: поменьше рвения. Не торопись складывать свою жизнь к чьим‑либо ногам. Погоди, оглянись, может, это не обязательно.
Все остальные записи использованы в «Венгерских рассказах».
Недавно у меня была Комлякова, странная женщина с Игарки. Мы познакомились по письмам. Толстая, некрасивая, в очках, с дурной кожей и удивительно трогательная, даже женственная. Прощаясь, она провела пальцем по моему лицу — тихо, но твердо. Меня Тронул и смутил этот жест слепой. После из письма я узнал, что она действительно слепнет (последствие контузии и нажитого в Игарке авитаминоза). Но почему это «ручное зрение» появилось у нее так рано? Я думал, оно приходит с полной слепотой. Или человек бессознательно начинает тренировать себя на это новое узнавание мира?
У нашей жизни есть одно огромное преимущество перед жизнью западного человека: она почти снимает страх смерти.
Голубая пробоина в сером, пасмурном небе.
Опять у неба стеклянный блеск, опять пришла осень.
Хоронили Шерешевского. Крематорий — единственное место на земле, где не чувствуешь себя чужим. Когда гроб опустили в дыру, и мы вцшли наружу, из труб черно и густо повалил дым. Как много надо жара, чтобы сжечь одного маленького еврея! И еще казалось, что Шерешевский клубами дыма уходит в небо, как джинн из «1001–й ночи».