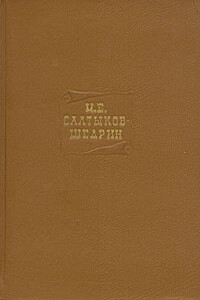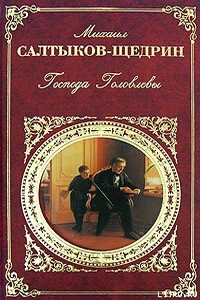– Разве примеры-то эти, братец, не бывали?!
Тем не менее я остался глух ко всем просьбам и предложениям и зато имел удовольствие видеть, какая глубокая ненависть блестела в глазах обеих сестриц, когда они прощались со мной, отправляясь обратно в Ветлугу.
Но в то же время они не могли и не любить меня. Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать, как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его. Но, увы! мотив этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидит, а судьбу, разлучающую ее с ним. Напрасно старается она забыть о сале, напрасно отворачивается от него, начинает замывать лапкой мордочку, ловить зубами блох и проч. Сало такая вещь, не любить которую невозможно. И вот она принимается любить его. Любить – и в то же время ненавидеть…
А разве я не был именно таким куском сала для моих сестриц?
Они до того любили меня, что ради меня даже друг друга возненавидели. Не существовало на свете той клеветы, того подозрения, о которых не было бы заявлено в наших интимных семейных беседах. И Фофочка и Лелечка – все переплелось, перепуталось в этой бесконечной сети любвей и ненавистен, которую нерукотворно сплела семейная связь. "И лег и встал", "походя ворует", "грабит", "добро из дому тащит" – таков был созданный временем семейный наш лексикон, и ежели этот бессмысленный винегрет всевозможных противоречий, уверток и оговорок мог казаться для постороннего человека забавным, то жить в нем, играть в нем деятельную роль – было просто нестерпимо.
– И что вы грызетесь! – говорил я им иногда под добрую руку, – каждой из вас по двугривенному дать – за глаза довольно, а вы вот думаете миллион после меня найти и добром поделить не хотите: все как бы одной захапать!
– Это не я, братец, это сестрица Даша! Это она завистлива; а мне что! Я и своим предовольна-довольна! – оправдывалась сестрица Марья Ивановна.
– Это не я, братец, это сестрица Маша! мне что! Это она завистлива, а я и своим предовольна-довольна! – в свою очередь, оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.
И таким образом, в взаимных поклепах шло время, покуда мои миллионы не очутились в руках Прокопа.
Итак, сестрицы сидели в гостиной усадьбы Проплеванной и толковали. Взаимное горе соединило их, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живее. Для каждой каждая представлялась единственною причиной обманутых надежд и случившегося разорения. Если бы не Машенькины интриги – братец наверное отказал бы свой миллион Дашеньке, и наоборот. Хотя же усадьба Проплеванная и принадлежала им несомненно, но большого утешения в этом они не видели. Во-первых, трудно поделить землю: кому отдать просто худородную землю, кому – болота и пески? Во-вторых, дом: неминучее дело продать его за бесценок на своз. Отдать Машеньке – будет протестовать Дашенька; отдать Дашеньке – будет протестовать Машенька. Кончится тем, что придется выписать из Петербурга адвоката, который и присудит себе Проплеванную за труды. Следовательно, в будущем виделись только ссоры, утучнение адвоката и бесконечное, безвыходное галдение. И куда делся этот миллион! Вот кабы он был налицо, так тогда, точно, поделить было бы не трудно! Вот вам, Марья Ивановна, пятьсот тысяч, а вот вам, Дарья Ивановна, пятьсот тысяч. Это была такая светлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабывали даже о взаимной вражде своей.
– Сам! сам перед отъездом в Петербург говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! – восклицает сестрица Марья Ивановна и от волнения даже вскакивает с места и грозится куда-то в пространство кулаком.
– Сама собственными ушами слышала, как говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! – вторит с невольным увлечением сестрица Дарья Ивановна.
Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аннинька пожимают плечиками и, шепелявя на институтский манер, произносят:
– Это ужасно! Это уж бог знает что!
– И куда этот миллион девался!
– Точно в прорву какую этот миллион провалился!
– То есть руку на отсеченье отдаю, что Прокопка-мерзавец его украл!
– Он, он, он! Кому другому украсть, как не ему, мерзавцу!