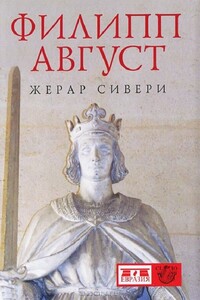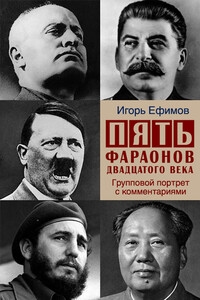Вопрос о моих сестрах, которые не могли, конечно, бросить Академию и ехать с нами, тоже разрешился просто: мы оставляли им нашу квартиру, с вечной нашей няней и всем, что в ней было, а так как для них одних она была слишком велика, то к ним переезжал Карташев, который последнее время очень сблизился с нами и с моими сестрами. Все они трое были вполне в наших с Д. С. идеях. А. Карташев, в это время, был на переломе своей карьеры. В Духовной Академии его уже давно едва терпели, он ждал отставки каждый день, но сам уйти все-таки боялся: как это вдруг он останется ни с чем? Что будет делать? В жизни — без привычных помочей? И лишь тогда решил уйти из Духовной Академии (из которой его все равно бы выставили), когда Философов устроил ему службу в Публичной библиотеке, передав свое же место.
Надо сказать, что Карташева сближало с моими сестрами, кроме общих (наших) идей, еще одно свойство: мои сестры, тогда молодые, и обе очень красивые, были, однако, аскетического типа. Ни одна не помышляла о замужестве, ни в одной не было никогда тени кокетства или чего-нибудь подобного. А тогдашний вид Карташева, похожего, как мы говорили, на Гоголя перед первой панихидой, достаточно свидетельствовал о его монастырской жизни, среди строгих монахов Лавры. Хотя монашеской рясы он не носил, но был даже и у себя в комнате под их контролем. Можно вообразить, как огорчался и возмущался таким уклоном в бессемейность проповедник брака и семьи Розанов! Это о моих сестрах и Карташеве написал он свою длинную статью — целую, кажется, брошюру — под названием «Люди лунного света».
Таким образом, уезжая втроем за границу, мы оставляли в России совместную тройку наших единомышленников. Мы уезжали на неопределенное время, возможно — только на год, не больше двух лет во всяком случае.
«Подождем до ранней весны, — сказал Д. С. — Может быть, увидим еще какие-нибудь перемены. Тогда отложим на следующий год».
Но все шло так же. Вечера в «Вопросах жизни», бесцельная, утомительная суета дома, мои разговоры с Бердяевым… Воскресенья у Розанова потухли. Приехал из Москвы Андрей Белый со своими капризами и новой любовью — к молодой жене Блока, тогда, действительно, прелестной, статной, розовой Любовь Дмитриевне.
Мы стали готовиться к отъезду.
Д. С. заботился о нужных ему книгах — а вдруг не достанешь в Париже? Впрочем, до «Павла I» у него еще было намечено несколько работ, для которых он все заранее приготовил.
Философов уехал раньше нас, в Швейцарию, кажется, где были тогда его мать и сестры, — и раньше на теософский съезд… Матери он уже сказал, что будет жить с нами, и сначала в Париже, откуда в Россию вернется не скоро.
Мы с Д. С. выехали из Петербурга 14 марта. Мало кто знал, что мы уезжаем. Был серенький день с мягким снежком. Помню на платформе розовые, огорченные лица моих сестер, косящие голубые глаза Бори Бугаева (Андрея Белого), да шапку пышных черных волос Бердяева.
Через день мы были в Париже, где уже встретил нас Дима Философов, приготовивший нам помещение около Etoile.
Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем, в Париже.
Он длился, с краткими отлучками из Парижа, — в Бретань, в Нормандию, на Ривьеру или в Германию — около двух с половиной лет, до нашего возвращения в Петербург в июле 1908 года.
Мне хотелось бы скользнуть быстрее по этим годам, но жаль: ведь это был Париж, совсем почти незнакомый нынешним парижанам, да наше, русское, в нем положение было совсем другое, даже эмигрантов, не говоря уже о нас, независимых, не «приютских», какими мы сделались всего 14 лет спустя и поняли, каково жить людям в чужой стране и, главное, своей уже не имеющим.
Тот, давний Париж и наше в нем житье — это будет вторая часть моей записи.