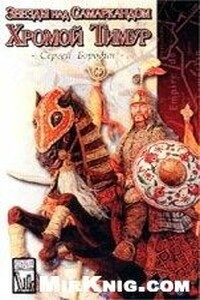И когда удивленные тысячники собирались повернуться к двери, Мамай крикнул:
— Мы ломали копыта коней и набивали мозоли на своих задах даром? Каждому из нас надо немного золота и побольше рабов. И вы это возьмете.
Он видел, что глаза их повеселели. Ночью этот блеск разгорится в пламень, и утром их сердца запылают жаждой битв и жадностью. Он знал людей.
Когда все ушли, когда и сам он лег и завернулся, его опять охватила ярость. Он комкал одеяла, грыз их, рвал.
Бернаба молчал, но слышал.
За кошмами юрты тихо топталась стража, и под подошвами воинов похрустывала обмерзшая трава. Но Мамай затих.
Удивленный Бернаба приподнялся и взглянул на князя.
Мамай лежал, запрокинувшись навзничь, стиснув скомканные одеяла, с перекошенным и полуоткрытым ртом. Сон, как стрела, сразил его внезапно.
Бернаба долго не мог уснуть и внимательно разглядывал опрокинутого сном Мамая.
Пусть вся Орда спит, безучастная к грядущему дню, Бернаба не безучастен. Свой грядущий день он силится разгадать, обдумать.
Когда на рассвете принесли кумыс и воду, за откинутым ковром раскрылось зеленое безоблачное небо и белая, захваченная морозом земля.
Все стояли наготове, и Мамай двинул свою силу по пути, который назвал одним только тысячникам. Беспокойным, хмурым взглядом он всмотрелся, легко ли, охотно ли движутся они. Но словно тяжесть свалилась с них: радостно поворачивали коней в сторону от Московской дороги.
Только тогда, стуча зубами от жажды, Мамай приник к широкой чаше с белым осенним кумысом.
Двадцать пятая глава
РЯЗАНЬ
Кирилл поднялся в город. У ворот остановился и поглядел назад. Туманы застлали нижнюю слободу. Там тоскливо завыла собака. Может, чуяла близкий восход луны.
У Пронских ворот собиралась стража, и, затеплив светильник, воины разговаривали, обратясь лицом к свету.
Город уже затихал. Только у кузнеца еще шла работа. На пороге сидели и стояли люди — купцы, собравшиеся домой, ремесленники — и разговаривали, глядя не на собеседника, а в огонь, словно говорили огню, и слова их были спокойнее, тише, шли из глубины души, будто огонь освещал им темное для них самих сердце. А глаза не моргали, даже когда оружейник бил молотом по мягкому, как воск, клинку.
Оружейник приметил Кирилла.
— Присядь. Расскажи.
— Об чем?
— Откуда пришел, про то и сказывай.
И люди притихли, оглядывая Кирилла.
— Долго говорить. Меня и на постой не пустят.
— А где стал-то?
— У Герасима. На взвозе.
— Куды ж туда в таку темень идтить?
— Дойду.
— Пойдем ко мне. Я собираюсь. Вот только последний докуем.
Строгие, отчужденные взгляды рязан пугали Кирилла. Думал: суров народ. А этот зов из-под хмурых бровей пригрел.
— Ин ладно, — сказал Кирилл.
— Он человек хороший. Ты не бойсь, — сказал Кириллу хилый красильщик, махнув на оружейника окрашенной синью рукой.
— Такой богатырь не спугается. Мне б такую мощь, я б и ночью из города выйтить не забоялся.
— Какая ж у меня мощь? — засмеялся Кирилл.
— Днем видали, как воз выволок. Да и так видать — плечи под епанчу не спрячешь.
Кирилл догадался: видно, в Рязани разговаривали о нем.
Пламя в горне затихло. Нежно сияли угли, подернутые голубой пленкой.
Рязане пошли к своим дворам.
Кирилл ушел к оружейнику.
Двор его стоял недалеко от княжого двора, и Олегов терем поднимался похожей на седло, крышей высоко, к мутному небу, где уже всплыла луна.
Дом оружейника, окруженный тыном, был невысок, но крепок. Узорные кованые скобы и петли на двери поблескивали в лунном свете.
Внутри горела лучина, воткнутая в железный ставец, и тень от ставца трепетала по стене, причудливая, как водоросль. В темноте жилья, в скупом свете огонька Кириллу вспомнился далекий край — водоросли, Босфор.
Кирилл перекрестился, прежде чем поклониться.
Женщины молча и бесстрастно ответили на его поклон. На печи посапывали ребятишки.
Он поел из одной чашки с хозяином, и постель гостю хозяйка постелила на нарах в запечье.
— Тут те спокойно. Тараканов у нас нет, — сказал хозяин.
— Сверчок донимает, — сказала хозяйка.
А сестра хозяйки объяснила хозяину:
— Видать, скоро холода станут. С этих пор в избу заполз. Мы уж каждую щелочку обшарили — нету.