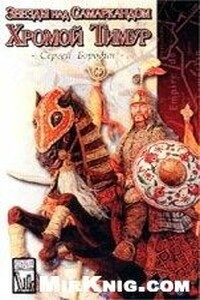Улочка отсюда круто спускалась к речке. Так же, шагом, Дмитрии поехал вниз. От реки, словно распятая, низко склонив голову, шла, вскинув на коромысло руки, женщина.
Дмитрий быстро спрыгнул с седла и отдал повод Белозерскому:
— Отведи, отроче, коней в гору да постой там.
И пошел к реке.
Женщина, заслышав скрип снега, остановилась. Тревожно подняла лицо. Все лицо ее было закрыто платком; лишь единственный глаз выглядывал. Длинный, тоскливый, ласковый глаз.
— Воду несешь? — спросил Дмитрий.
— Сам, что ль, не видишь?
— Дай испить.
Она повернула на плече коромысло, и бадья подплыла к Дмитриевым устам. Глотнув нестерпимо ледяной воды, он вытер ладонью усы.
— А чего ж не колодезную пьете?
— У нас намедни в колодце кот утоп. А освятить не успели Что ж, нам поганую, что ль, пить?
— Поганую не надо.
— Потому вот и носим.
— А тя как звать-то?
— Санькой.
— Ты рязанка, что ль?
— А почем знаешь?
— Песню твою слыхал.
Она засмеялась.
— Ты чей сам-то?
— Из Кремля.
— О, высоко живешь!
— Я слыхал: пела ты об татарах; сказывают, ты от них натерпелась.
Она опустила голову:
— Довелось.
— Так нету более тех татар. Все за тебя ответили.
— Как?
— Головами ответили. Слыхала?
— Кто ж не слыхал? Мне б хоть издали Митрия-то Ивановича увидеть. В ноги бы поклонилась.
— Митрий об тебе знает. Слыхал. И велел сказать: «Будешь по Кремлю идти, пой, как в праздник; не бойся».
— Чудная речь: будто обо мне говоришь, а будто не со мной.
Она пригнулась, поставила бадьи в снег и встала, глядя на Дмитрия.
— Чего те надо-то? Не пойму.
Дмитрий подумал, как хотелось ему поехать к ней прямо с битвы, обрадовать, одарить, сесть возле нее и попросить ее песен; о ее песне помнил, стоя на Воже. А теперь не знал, что еще ей сказать.
— Дай пособлю ведра поднять.
— Расплещешь. Я сама.
— Ежели приду, споешь тогда?
— Лучше петь, чем плакать. Потому и пою. А доведется те увидеть Митрия-то, поклонись ему. Да ему невдомек будет, от кого тот поклон.
— Ну что ж. Поклонюсь… прощай.
Он вышел в гору. Когда сюда ехал, думалось, радостно ему будет прервать ее песню, крикнуть ей через тын:
— Пой веселей. Теперь некому тебя обижать! — и проехать дальше.
А вышло не то.
Они возвратились в Кремль.
У крыльца стоял без шапки незнакомый, постыдно лысый поп с позолоченным крестом на шее.
— Откуда такой? — удивился Дмитрий.
— Дожидаюсь тебя, государь, из Рязани! — после приветствий сказал Софроний, поднимаясь вслед за князем на разрисованное алыми полосами высокое крыльцо.
— А чего?
— Беда, государь! Без устали до тебя скакал: к нам весть пришла, будто Мамай на Москву собрался.
Дмитрий остановился.
— Откуда? Давно ль я их отогнал?
— С Орды на Рязань гонец прибыл. Говорит: идут.
«Опять? Готовиться? Биться? Успею ли?»
— Это Ольг, что ль, тебя прислал?
— Нет, государь. Ольг не слал. Я сам.
— Чудно! Эй! — крикнул он Белозерскому. — Погоди слезать! Скачи, отроче, до князя Боброка. Ежли дома захватишь, чтоб немедля ко мне. — И обернулся к Софронию: — Ты поп, что ль?
— Ольгов был духовник.
Перегнувшись через перила крыльца, крикнул во двор:
— Яклев!
— Тута, государь!
Дмитрий приказал разослать по боярам:
— Чтоб живо сюда сбирались!
И возвратился к Софронию:
— Вон оно что? А чего ж сюда прискакал?
— Государь, земля-то Русская не ждет ведь беды. Может, упасем ее от беды-то!
— Увидим! Шапку надень. Волосом-то ты не вельми богат, а нонче студено.
— Вон ты какой, государь!
Дмитрий засмеялся:
— А какой же еще?!
— Рад бы тебе служить, государь!
— Иди, я тебя кликну.
И велел воину проводить рязанского попа на покой. Но сам не был спокоен, пока не увидел во дворе Боброка на черном, покрытом белой пеной коне.
— Дмитрий Михайлович!
— Знаю, знаю. Отрок твой поведал. Успеем, сберемся. Что ж мы, дурее Орды, что ли?
— Да тяжело ведь. От Вожи плечи ноют, а тут опять…
— Коли плечи ноют, знать, голова цела… С Коломны Московские полки идут, так я уж послал — вернуть их назад в Коломну. Успеем, Дмитрий Иванович.
Когда все собрались, вызвали Софрония, и Дмитрий и бояре выслушали его. Поп повторил свою весть и вдруг горячо, торопливо, словно боялся, что кто-то прервет, рассказал о Рязани, об Олеге, все, что накопил в себе.