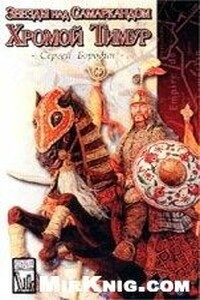Многие подумали: «Хитер! Выходит: не он нас звал, а сами мы собрались сюда!»
Таш-бек неохотно пододвинулся:
— Что я скажу? Мы бились так, что уцелевшим стыдно. Живые завидуют павшим. И я завидую. Русы разбили нас. Из троих бившихся вернулся один. Из троих вернувшихся снова идти на русов решится один. Сами считайте, сколько уцелело воинов. Других слов у меня нет.
Мамай:
— Ты говоришь, как раб, как трус. А я тебя почитал за князя.
— Нет, я не трус. Я снова пойду на Москву.
Мамай:
— Если клинок не дает взамен трех клинков, если, потеряв одного коня, воин не приводит трех — незачем держать войска. Мы резали, и мы впредь будем резать кобыл, если от них нет ни молока, ни приплода. Мы завоевываем, чтоб с побежденных брать приплод себе. Не много — одну десятую часть со всего. Так стоит Орда. Так она будет стоять. Надо опять идти! Говорите, скоро ли сможете вы встать в поход и как вы в поход пойдете? Русь принадлежит нам, и мы ей напомним наше право.
Таш-бек сказал:
— Многое завоевано Ордой. Нового нам не надо. Надо брать с того, кто завоеван. Так поступал Чингиз. А мы с одних упускаем дани, а на других с кровью и лишениями налагаем их. Мы стали от войны беднеть, а войны хороши, если приносят добычу, если…
Мамай перебил его:
— Я и говорю о том! А если не дают, надо заставить давать.
Один из мурз попрекнул:
— Не надо было уступать Дмитрию. То ты снизил им дани, то сзываешь в поход, чтобы поднять прежние дани.
Еще голос — голос старого Барласа:
— Сам прощал, сам возвращай.
— Что?! — воскликнул Мамай.
Когда притихли и присмирели, Мамай приподнялся с полу.
— Приказываю: собирать всех, кто возвращается из Бегичева похода. Вам завтра быть здесь всем. Кто говорит?
Все молчали.
Они встали, торопясь уйти.
Он не предложил им ни кумыса, ни беседы. С ненавистью он смотрел им вслед.
Когда Мамай остался один, к нему подошел Бернаба:
— Они ненадежны, хан. Надо искать других.
— Воины — не верблюжий навоз. По степи не валяются.
— У меня есть план…
— Некогда, некогда! Пока Дмитрий торжествует, надо подкрасться, обрушиться, не дать опомниться!
Снова вскочил, побледнел и затопал:
— Жечь их! Резать! Давить!
Вскоре успокоился.
— Времени у нас есть только, чтоб вдеть ногу в стремя и хлестнуть коня.
Бернаба смолчал.
— А как я тебе велел: ты учишь русский язык?
— Каждый день.
— Уже говоришь?
— Понемногу.
— За русского годишься, как мы условились?
— Рано еще.
— Торопись.
Бернаба придвинулся; наклонился к Мамаеву уху:
— Остерегись: хан будет рад твоему поражению.
Мамай понимал, что Бернаба хочет ему славы и силы. Он дает советы, помогает, поддерживает, ибо гибель Мамая — это гибель Бернабы, всех его генуэзских надежд. Кому из татар понадобится этот чужеземец, хотя и отатаренный; кому из генуэзцев понадобится столь отатаренный бездельник, хотя и генуэзец!
Мамаю этот хитрый проходимец во многом помог. Бернаба видел многие страны, над ним небосвод был высок и просторен.
Бернаба давал советы безжалостные, подлые, корыстные. Но они совпадали с мечтами Мамая, и этот проходимец был ему ближе всех друзей.
Мамай сказал:
— Хан не будет рад. Я одержу победу.
Бернаба молча отодвинулся: в комнате с ковров собирал сор раб. Ухо раба было срезано, и он низко на щеку опускал рыжие волосы. Раба звали Клим. Он был рожден рязанкой от чьих-то воинов, проходивших мимо.
«Если на Рязанской земле родится человек рыжеволосый, белотелый, значит, родичи его пришлые», — так хитро однажды объяснил Бернабе сей раб, когда Бернаба спросил: «Кто ты, бурнастый?»
Раб не видел родины тридцать лет. Он уже плохо стал говорить по-русски. Мамай заметил, что, чем чаще случались в Орде убийства ханов, тем одобрительнее раб глядел на Мамая, и Мамай приблизил раба: доверил ему уборку комнат и присмотр за едой. И стал отпускать молиться в русскую церковь.
Бернаба удалился. Раб ушел. Мамай спустился в сад.
Было невыносимо думать теперь о Воже. Но начинался новый поход, и крылья надежд прикрыли вожскую рану.
Ночь стояла тихая. Люди не пели, не гремели барабаны. Лишь кое-где розовели глиняные стены, озаренные отсветами вечерних костров. Да в темноте осеннего неба кровавой каплей висела одинокая звезда. Громко текла вода в ручье. Пахло степными травами — полынью и мятой, и к ним примешивался чуждый аромат садовых цветов: так по кошме, не сливаясь с ней, ложатся чуждые войлоку узоры.