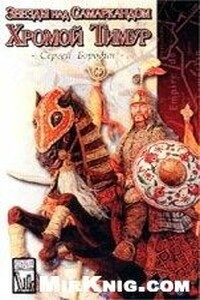— Рязанцы, которые посильней, у рязанского епископа Василья на примете; ныне многие из них ручней стали. Я Василью Рязанскому вчерась нового келейника благословил. Нонче поутру, видно, поехал, а с ним письмо.
— За молитвы твои, отче Сергие, низкий от меня поклон. Я скажу дьяку Нестеру, чтоб грамоту те сготовил. Когда уходить будешь, возьми: жалую твою Троицкую обитель ловчими промыслами, дозволяю вам ловить на реке Воре выдру, бобра, — иного всякого зверя. То за молитвы твои, доколе в походе буду.
— Вечные о тебе молитвенники, Дмитрий Иванович!
Подошел Боброк, Дмитрий спросил:
— Что ты, Дмитрий Михайлович, о татарах сведал? Сулился сказать.
— Не нонче сведал, давно. О строе их в битве сведущих людей расспрашивал, сам размышлял. Како идут в бой, чем побеждают.
Сергий вглядывался в них, знал: Дмитрий не любит книжников. Воин — он в битвах прям и не хитер и о боге-то думает мало; хозяин — он жалеет время на книги и на молитвы и книгочеев гнушается. А Боброк над книгами ночи просиживает, а то на звезды глядит да песни бормочет. Тем Боброк Дмитрию не люб. Но никого нет равного Боброку по воинскому разуму, и Дмитрию без него не управиться. И Боброк живет, будто и не знает, что злая змея порой заползает к Дмитрию. И та змея — зависть.
Вот и ныне: страшная битва надвигается, войско уже идет к ней; завтра и Дмитрий за войском тронется, а Боброк остается Москву стеречь.
Сергий знал: хочет Дмитрий всю славу себе взять! Всю без остатка! Чтоб Боброку ни капли ее не осталося. И теперь глядел на них: как мирно говорят они накануне разлуки, может быть, последний раз видятся!
Дмитрий долго беседовал с Боброком. Боброк чертил пальцем по скамье, и Дмитрий следил за его начертаниями. И хотя ни единая линия не видна была на алом покрывале скамьи, они вдвоем видели эти линии, словно меж ними лежало широкое поле, полное воинств, оружия и засад.
Сергий ушел в терем навестить своего крестника, маленького князя Юрия, успокоить Евдокию Дмитриевну, напуганную мужем; Дмитрий эти дни был задумчив, забывал отвечать ей, подолгу не приходил от бояр. У них мужские дела да воинские заботы, а у нее — женское сердце, легкое на печаль и падкое на слезы. А ведь может статься — последний свой день в Москве живет ее Дмитрий; может, выедет поутру и больше вовеки не скажет ей ни слова, не взглянет. Может, и самой, и детям, и Москве, и Руси наступают последние дни.
Сергий вошел. И так спокойно посмотрел в ее заплаканные глаза, так ласково погладил Юрия, словно все тихо вокруг.
Соблюсти тишину в Москве, соблюсти по всей Руси тишину в эти дни хотел Дмитрий. И Евдокия вдруг поняла это.
— Отче Сергие, я к вечерне пойду, к народу выйду. Много нынче слез у баб, у меня тоже муж в битву уходит, вместе помолимся.
— Иди, государыня. Милостыни раздай; скажи, чтоб не убивалися. Прошло время татар. Отступило время от них. Вдосталь от них наплакались. Ныне настает наше время.
В степи на многие версты вокруг поднималась пыль; скрипели колеса телег. Паслись косяки лошадей. Татарские кони, запрокидывая головы, ржали навстречу русскому ветру. Чем дальше от Орды, чем ближе к Москве, тем гуще становилась трава в степи, тем тише ветры, тем ниже и непроницаемее небеса.
По краям пути темнели давние курганы, похожие вечером на юрты родных кочевий.
У берегов безыменных рек лежали сросшиеся с землей развалины давних стен. Поросли полынью древние валы и рвы. Одичалая малина разрослась над ямами, неизвестно кем вырытыми в этой безлюдной земле. Русские люди отсюда ушли: слишком часто захаживали сюда татары. На многие версты простерлась по стране пустыня, легшая просторной чертой между Ордой и Русью.
Снова шли татары на Русь. Там, где прежде звенели ласковые славянские песни, там, где, бывало, девушки свивали с припевами тугие венки, ныне лишь ястреба взлетали с тревожным клекотом, лишь совы жалобно стонали по ночам. Там, где некогда соха ратовала за урожаи, где окрик ратая бодрил коня, ныне лишь кроты рыли поле, жаждавшее плодоносить. Там, где прежде теснились очаги и кровли, где торг и труд собирали людей о одно место, ныне все покрыл бурьян и поселились щеглы. Снова шли татары на Русь.